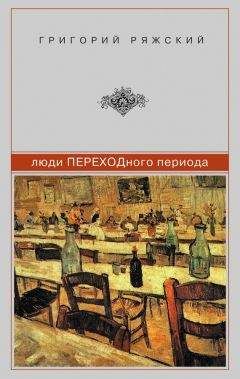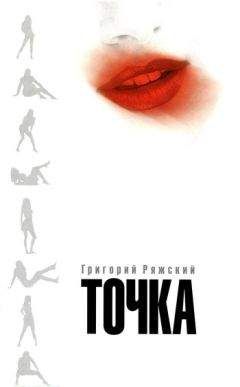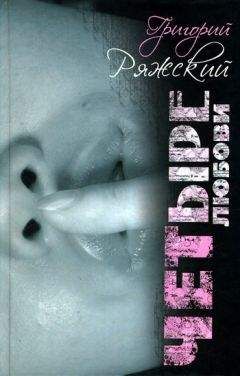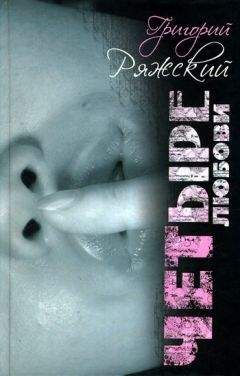Григорий Ряжский - Музейный роман
В свидетельстве о рождении её фамилия — Иванова — значилась как вписанная при появлении на свет. То же касалось и отчества — Александровна. Всё. Большей, нежели эта, информацией никто не располагал, хотя, ещё будучи детдомовкой, она сделала несколько напрасных попыток вынудить кого-нибудь из взрослых на откровенность. Впрочем, когда интересовалась у воспитателей, ей вполне искренне отвечали, сверясь по документам: поступила, мол, с пометкой «сирота», никаких иных сведений обозначено не было, так что, как говорится, ничем не поможем тебе, Иванова. Ну хорошо, пускай, размышляла Ева, раскидывая в голове возможный порядок действия местных властей, в чьих руках оказалась сирота по рождению. Поначалу же был, наверно, детский приют какой-никакой. После — дом малютки или что-то такое. А уж только потом её перевели сюда, в семнадцатый, верно? И сама же отвечала себе: верно, так и было, Ева Иванова, а как ещё-то быть могло?
Однажды набралась храбрости, сходила к директорше, сказала: сделайте запрос, пожалуйста, про меня по всей цепочке — откуда, кто и когда передавал с самого начала. Ей тогда чуть не доставало до двенадцати, и никакое такое ведьминское в ней ещё не началось. Просто было одиноко. Первые детские сотоварищи, ещё не успевшие нажить к той поре начальной злости, потихоньку стали уже отступаться от хромоногой подружки, постепенно обретая иные устойчивые дружбы и пристрастия, с охватом не только соседей по койке, а и шире, постигая новый для себя интерес, идущий от прочих детдомовских разделений на девчонок, пацанов и возрастные несходства.
В общем, отказали ей, воспитаннице неполноценной. Одни — в дружбе, другие — в изыскании семейной родословной. Буфетчица тётя Клава, что погибла потом при пожаре, как-то обнаружив её в тихой задумчивости с едва надкусанным коржиком, участливо поинтересовалась предметом печали. Ева и поделилась. Та же, узнав причину, сообщила ей прямо и жёстко, проявив и свою взрослую заботу о хромой сироте. Сказала:
— Ты, Евушка, про это дело лучше совсем забудь, не дёргай себя за нервы, а родителей своих за совесть. Их уж, наверно, и в живых-то нету. А коли есть кто, так считай, и не был живой. Сама посуди, ну какой живой божий родитель свою же дочу чужим отдаст, а хуже того — государству нашему. Были б приличные да положительные, так тебе бы давно про них сообщили через кого положено, типа угорели на пожаре, или ж побились на машине, иль, к примеру, померли от смертельной раковой опухоли. А там, глядишь, и бабушки с дедушками оказались бы иль другая любая родня. А раз нету никого, то, значит, и не было или же просто никому не надо. Так что ты, девонька, на такое неблагодарное дело лучше себя не трать, а просто плюнь, как и не было их никого и никогда. Об себе больше думай, об том, как с ногою этой лучше жить, чтоб не так донимала и помехой жизни не сделалась. Милое дело — на проходную, всё равно чего, с чайником и телевизором. Посуточно. Плюс к тому знаешь сколько народу мимо протекёт, пока сидишь и пропускаешь? Глядишь, и пожалеет кто, а может, даже сблизится через время, приголубит и на ногу твою дурную тоже наплюёт. Ты помни, миленькая: одиночество для тебя смерть, и больше ничего. Сама не встрянешь куда-нибудь, так и никто тебя саму не встрянет. Нá люди, нá люди старайся, не все сволочи да воры, кто-то обязательно пожалеет и печаль твою разгладит. А на откуда сама взялась, да кто там из твоих где и почему был иль есть — забудь и разотри. Пóняла?
Она кивнула тогда, она пóняла. Из всего взрослого контингента тётя Клава была самой доброй и человечной. Через пару лет Ева посмотрела душевную Клаву в числе прочих взрослых, уже с прицелом на взрослую правду, и выяснила, что та тащит больше и чаще остальных, причём намного. И никогда ни с кем не делится, в отличие от поваров и хозобслуги. Однако на первое разочарование то увиденное не тянуло. Уже было с чем сравнивать. И потому покраденное тётей Клавой вскоре перешло в разряд обычной дежурной мелочовки в сравнении с делами директорского корпуса. Там всё было уже куда как системней, измеряясь солидным объёмом присвоенного от сиротского бюджета и внаглую меж собой поделённого.
Открыв в себе особость, поначалу Ева недоумевала оттого, что в одного и того же человека, оказывается, вполне удобным хватом вмещаются два. И даже больше — совсем разных, сильно непохожих один на другого при одном и том же лице, тех же самых глазах и отдельно существующей от всего участливой улыбке. Вскоре она выяснила, кто у кого ночует и в какие дни, сколько, если в деньгах, «весит вход» в детдом и какой суммой измеряется «выход» из дела. Многое прояснилось и в отношении ближней родни воспитателей и учителей, нарылось кой-чего и насчёт нехороших болезней.
Потом она перестала смотреть, подавив в себе первый интерес к подобного рода открытиям. Было противно и без этого малонужного ей знания. Она просто хотела быть как все, даже имея эту проклятую нездоровую конечность. Однако не получалось, как Ева ни старалась. А потом и стараться перестала, видя никчёмность собственных усилий. И нашла промежуточный выход — сосредоточилась на ученье, за короткий срок сделавшись пятёрочницей. А попутно урокам пыталась всяким образом развить собственный мозг. Запоминала даты, формулы из органической химии, высказывания интересных людей, до каких сумела докопаться, роясь в скудной детдомовской библиотеке. Вот только никто ей так и не сподобился объяснить, чьи слова и мудрости из выисканных ею знаменитостей достойны запоминания, а какие, пропустив через голову, можно смело выпустить обратно на вольный ветер.
Так и шло: с пятёрками за ученье и без взаимности от пацанов. С особым знанием, но без всякого его применения. С ясной картинкой, хотя и увиденной без надобности.
Позже особость та окрепла, набрав пронзительно ясной силы, и сделалась почти безошибочной, хотя чаще была непроверяемой. В какой-то момент, когда воспитанница Иванова ощутила себя окончательно отдельной от тех, кто был и жил рядом, разделял с ней кров и пищу, она не раз пыталась зайти в собственное прошлое, засечь там малейшее движение в любую сторону, выискать, выщупать, обнаружить даже малые тени призраков ближних и дальних, могущих поведать ей хоть частичку глубоко сокрытой правды, крупицу своей же истории, высветить сполохом быстрой надежды хотя бы долю знания о себе.
И вновь было пусто, ничего не получалось. Всегда был один лишь мрак и тишина, словно бесшумно отворялась медленная дверка в затерянный подвальный мир, где полностью отсутствует свет, звук, всякое движение живого и неживого. Одна сплошная тина. Даже запах затхлости и тот не ощущался никак. Не было ничего — ни прошлого, ни настоящего, ни видимого будущего. Не было привычной подсказки, как бывало, когда шло у неё про других. Вероятно, не хватало чего-то важного. Быть может, думала она, помогла бы вещь, знак, фотография. Или обрывок чьей-то памяти о её прошлом; того человека она просто взяла бы за руку, предварительно растерев ладони, и подержала бы её меж них, напитывая отголосками прошлого. Если пойдёт.
Обо всём этом размышляла Ева, пока электропоезд Москва — Малоярославец набирал ход, отдаляясь студёным утренним часом от платформы Киевского вокзала. Это был нежданно-негаданно даденный музеем отпуск. И это была всё та же зима.
Она глянула в окно, но стекло заиндевело, и Еве пришлось вычистить себе рукавицей смотровую зону размером с детский кулачок, через которую вскоре обнаружилась всё та же неприглядная картина московского пригорода. Дома, в массе своей унылые и равноэтажные, будто сделанные под чью-то недобрую копирку, тянулись монотонной чередой, открывая время от времени такие же невесёлые, как и сами, тусклые прогалы между очередными бесцветными строениями. Дальше пошла картинка чуть веселей, хотя и заметно бедней. Потекли скучные посёлки, перемежающиеся отдельно стоящими неказистыми домиками, задержавшимися в этой придорожной жизни ещё с довоенных, видно, времён. Жидкий кустарник, кое-как произраставший по обе стороны от железнодорожного полотна, был почти по самую макушку занесён грязноватым снегом. Пахло углём и жжёной соляркой. Где-то под сиденьем однотонно погромыхивал промежуточный движок, и Ева с огорчением подумала, что из всех четырнадцати вагонов ей, как всегда, достался самый ужасный и неудобный — моторный. А ещё сообразила, что если бы чуть-чуть напряглась, то, скорей всего, смогла бы увидеть и эту неудобную особенность пассажирского состава. Но об этом думать уже не хотелось, чтобы в очередной раз не распылять себя на пустое.
Чуть погодя потекла искусственная лесополоса, тоже не бог весть какая шикарная. Но это уже были взрослые деревья, и каждое, подумалось ей, со своей понятной судьбой: посадили, взрастили, теперь будет жить, ожидая смерти в силу возраста или во исполнение чьей-то нужды. По крайней мере, особо мучиться не над чем, просто надо дождаться очереди, на жизнь или на смерть, как повезёт. Вот так и ей, наверно, Еве, не знавшей родства, надлежит просто жить. Жить и ждать завершения одной музейной экспозиции и открытия следующей, каждый раз надеясь, что очередное чудо искусства обогнёт её грусть стороной, сделав так, что ещё сколько-то после закрытия будет вспоминать она чудо то и радоваться. А может, если снова повезёт, то напорется на самбу-румбу-ча-ча-чу, которая, как и раньше, напитает сердце глуповатой и пустой надеждой на то, что и сама не хуже сумела б, кабы не премудрая нога, забери её тёмный леший лесной.