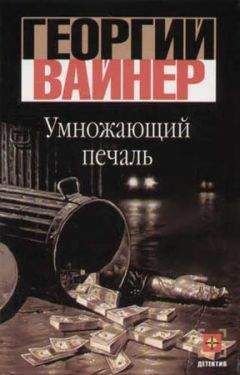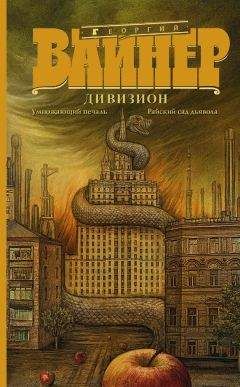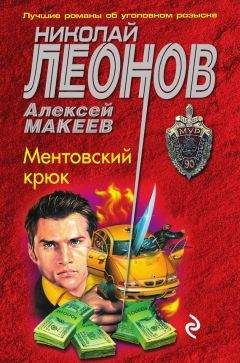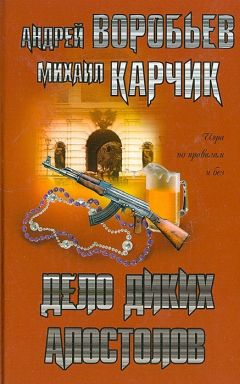Аркадий Вайнер - Умножающий печаль
– Не-е… На работе не пью.
– А ты здесь, у меня, на работе?
– Скажем так – с деловым визитом, – ухмыльнулся я.
– Пришел за долгами своего дружка, моего бывшего мужа? – недобро прищурясь, спросила Люда. Удивительная, невыдыхающаяся, нелиняющая сила старых предубеждений по-прежнему бушевала в ней.
– С моего друга, твоего бывшего мужа, долги можно получить только на Новодевичьем, – попытался я ее успокоить.
– Думаю, долго ждать будешь, – заверила твердо Серебровская.
– Может быть, – пожал я плечами. – Главное, чтобы время ожидания оказалось короче моего жизненного срока…
– А вот этого, как любит говорить мой бывший муж, уверенно обещать тебе не могу. – Она кивнула на радиоприемник, вещающий обычную рекламную чепуху: – Дурачок Серега Ордынцев думает, что он – режиссер предполагаемого спектакля… А режиссер у нас один…
– Не пугай! – схватился я в ужасе за голову.
– Смейся-смейся, пустомеля! Сашка назначает нас на роли друзей или врагов, он приближает нас или прогоняет со сцены, он велит нам быть героями или злодеями. Он дарит нам свою любовь или… Рассердится – велит убить…
– Не преувеличивай! – веселился я. – Бог не выдаст, свинья не съест.
Людмила тяжело вздохнула:
– Да, так все время и рассчитывали, и надеялись… А Бог выдал, и свинья сожрала… – Она нервно давила в хрустальной пепельнице сигарету и сразу же чиркала зажигалкой, закуривая новую. – Кот, тебе в лагере круто довелось?
– Люда! О чем ты говоришь! Не смеши меня и не жалоби! Три года всего! Да я их на одной ножке простоял!
Она усмехнулась грустно, и в лице ее появилось нечто человеческое.
– Я забыла, что ты, хвастун, не жалуешься! – Она помолчала, потом тихо сказала:
– Если можешь, прости – я к тебе плохо относилась всегда… Думала, что ты Сашку с толку сбиваешь. У тебя ведь всегда на уме только пьянь да блядки были…
– Как вам не совестно, мадам! А фарцовка? Пламенный комсомолец-негоциант Кот Бойко! А карты? А бега? Мало забот было?…
– Да, ты был человек очень занятой, ничего не скажешь…
В глазах у нее была печаль – она явно жалела, что не может, как в давние времена, снова исключить меня из комсомола. Люда была в те поры секретарем Свердловского райкома комсомола нашей прекрасной столицы, которую мы все по призыву партии превращали в город коммунистического быта. Люда тенденциозно, на мой взгляд – глубоко ошибочно, считала, что моя деятельность не помогает росту коммунистического быта. На бюро райкома комсомола оскорбляла меня клеветническим предположением, что я, мол, унижаю, оскверняю и вообще позорю высокое звание члена Ленинского Коммунистического Союза Молодежи.
Такой ужасный упрек вызывал у меня нестерпимую боль.
Я предлагал старшим товарищам доказать свою верность идеалам. Я обещал повеситься или застрелиться из вражеского пулемета, как наши комсомольские бабушка и дедушка Зоя Космодемьянская и Александр Матросов. А они все равно упрекали меня в неискренности. Они кричали в гневе: «Этот проходимец смеется над нами!»
Конечно, я бы забил болт на них на всех, но меня могли выключить не только из комсомола, но и выпереть с треском из сборной, и Хитрый Пес отправился к Люде отмазывать меня – он был гений всякого рода разговоров с начальством.
Пришел, увидел, пошутил.
Поговорил, понял, полюбил.
Сошелся, трахнул, женился.
С помощью Люды, ее громадных повсеместных связей мы потом разворовали половину городских денег. Золотая пора: идеи наши – бензин комсомольский, общественный, партийный, государственный – чужой, одним словом. Ушли те времена…
– Ах, если бы можно было что-то вернуть! Я боялась, что ты у меня мужа из дома сгонишь, а вышло совсем по-другому, – с горечью говорила Люда, и у нее на глаза наворачивались слезы. – Твоя ненаглядная и тебя кинула, и меня из дома выбросила…
– Люда, не люблю я говорить об этом, не хочу вспоминать ничего, – мягко остановил я ее.
Она смотрела на меня долгим сверлящим взглядом, качала головой:
– Мне-то не ври!… Тебе и вспоминать ничего не надо – ты об этом никогда не забываешь, каждый миг помнишь. И живешь в том же аду, что и я… Колдунья, ворожея твоя Марина…
– Не моя, – сказал я.
– Нет, Кот, я баба, я все про это понимаю… Марина всегда будет твоя!… Далекая, чужая, недоступная, а сниться по ночам будет только она. Ворожбу она знает, приворотное чудо… Ненавижу ее, презираю, могла бы – убила, а все равно знаю: есть в ней страшная сила чародейская…
– Не преувеличивай! – Я резко встал, достал из кармана дискету. – Ни с кем и никогда я не говорю на эту тему. Даже с тобой…
– Особенно со мной! – подняла палец Серебровская. – Мой муж…
Я перебил ее:
– Твой муж, мой бывший брат, – из породы людей-чертей. Он – бес! Бес Пардонный… И меня не устраивает роль солиста на ниточках в кукольном театре моего друга. Хватит, надергался! Поезжай срочно к своему бывшему мужу и передай ему эту дискету…
– Какой-нибудь скелет в шкафу? – горько усмехнулась Люда.
– Это у обычных людей припрятан скелет в шкафу, – поправил я. – Здесь – то самое Новодевичье кладбище…
– Хорошо, – согласилась сразу Людмила. – Сейчас постараюсь с ним созвониться и поеду.
– Никуда не звони, ничего по телефону не объясняй. Поезжай и отдай из рук в руки. Ни одному человеку, кроме него…
– Это так серьезно? – тревожно спросила Людмила.
– Серьезно, поверь мне. И еще одно – не вздумай после моего ухода посмотреть на компьютере дискету. Если твой нежный супруг догадается, что ты знаешь ее содержание, я за твою жизнь гроша ломаного не дам…
Я дошел до двери, обернулся к оцепеневшей женщине:
– Люда, Ванька вспоминает обо мне? Когда-нибудь?
– Очень часто. Он так и зовет тебя – Капитан…
На улице мы с Лорой остановились у витрины большого магазина электроники – двенадцать Серебровских одновременно обращались к прохожим, торопливо снующим по своим ничтожно-маленьким, но почему-то очень важным для них делам. Двенадцать поставленных друг на друга крупноэкранных телевизоров «Сони» транслировали передачу, в которой Николай Сванидзе беседовал с моим замечательным другом Александром Серебровским.
Это было впечатляющее зрелище – из витрины смотрела в мир толпа магнатов.
Олигархи заполонили улицу, как на первомайской демонстрации.
– …Ну хорошо, Александр Игнатьевич, – говорит Сванидзе. – Вы принадлежите к той группе наших сограждан, которых называют «Господа Большие Деньги». Я хотел вас вот о чем спросить… Каждый значительный человек ощущает некоторое духовное родство с памятным литературным персонажем. Кто вы – Шейлок? Или Гобсек? Привалов с его миллионами? Может быть, вы финансист Фрэнк Каупервуд или барон Шудлер? Кем вы себя ощущаете?
– Мою литературную родню прозывают Михаилом Семенычем Собакевичем, – серьезно отвечает Сашка. – Очень был неглупый и серьезный мужчина…
– Потому что считал всех губернских чиновников жуликами и разбойниками? – смеется Сванидзе.
– И поэтому тоже. Помните – Гог и Магог?…
Я зачарованно смотрел на двенадцать громко вещающих Хитрых Псов, захвативших полностью мое жизненное пространство. Потом легонько подтолкнул Лору в бок:
– Вчера по ящику сказали, что у нас больше десяти миллионов олигофренов. Семь процентов народа – идиоты…
– Ты это к чему? – удивилась Лора. – Он совсем не похож на идиота…
Двенадцать одинаковых магнатов застят мир, говорят, объясняют, проповедуют, учат, командуют, управляют, владеют всем. И мной.
– Земля олигархов и олигофренов! – досадливо тряхнул я головой, пытаясь сбросить наваждение.
Телеведущий спросил Серебровского:
– И все-таки что же вас подвигнуло на решение баллотироваться?
– Стыд, – быстро ответил Серебровский. – Россия – богатейшая страна на земле. Почему же мы такие бедные, если мы такие богатые? Мне надоело быть бедным родственником, нахлебником процветающего мира. Надоело слушать ложь и глупости – дураки нелепо командуют, а умники ловко воруют. Может быть, хватит?…
Кот, это он тебя спрашивает – может, хватит?
СЕРГЕЙ ОРДЫНЦЕВ: ВАУЧЕР В.П. ЧКАЛОВА
Есть вещи, которые не надо оговаривать, – они возникают явочно и существуют далее как нерушимый порядок. Когда мы шли куда-то вместе, Сашка Серебровский не обгонял меня на ходу, не отталкивал за спину, да и я не тормозил себя в движении, а вот как-то так получилось, что у нас уже сложился неизменный походный ордер: два охранника впереди, потом всегда быстро идущий мой друг-магнат, я-за правым плечом, на полшага сзади, и уже после меня – прикрывающий тылы, замыкающий конвой.
Вот так мы и протопали через гулкий вестибюль нашего зажиточного билдинга, и цокот каблуков на гранитных плитах пола эхом возвращался к нам, будто отбивал тревожный ритм движения. Вошли в персональный президентский лифт – концевая охрана осталась в вестибюле, Сашкин личный телохранитель Миша нажал кнопку, и кабина, зеркалами и обшивкой красного дерева похожая на ампирный платяной шкаф, взмыла.