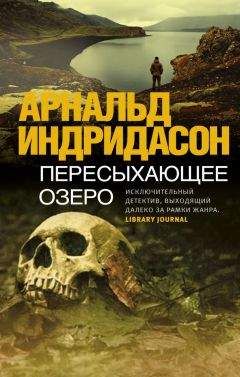Арнальд Индридасон - Каменный мешок
— От своей матери.
— А та от Беньямина?
— Именно так. Он вызвал ее к себе, лежа на смертном одре, и рассказал все это.
— Вы нашли медальон с локоном?
— Нашли.
— И вы намерены произвести соответствующие анализы?
— Как только откопаем скелет, сразу же этим займемся.
— Значит, вы считаете, что он ее убил. Беньямин, этот сопляк, эта тряпка, убил собственную невесту. Какая чушь, какая собачья чушь! Как вам только наглости хватает предполагать подобное.
Тут Бара неожиданно замолчала, о чем-то серьезно задумавшись.
— И все это попадет в газеты?
— Ничего не могу сказать на этот счет, — сухо ответила Элинборг. — Но находка на Пригорке вызвала немалый интерес у газет и телевидения, так что…
— И там напишут, что мою сестру убили?
— Откуда мне знать, но если таково будет наше заключение — напишут всенепременно. Как думаете, кто еще мог быть отцом ребенка вашей сестры?
— Кроме Беньямина никого не могу подозревать.
— Что, неужели не было речи про другого? Неужели сестра ни разу ни о чем таком не обмолвилась?
Бара решительно тряхнула головой:
— Это же значило бы, что моя сестра — гулящая девка! Это бессовестная ложь.
Элинборг прокашлялась. Время переходить в атаку.
— Вы мне в прошлый раз сказали, будто бы ваш отец покончил с собой за несколько лет до исчезновения дочери.
На миг женщины посмотрели друг другу в глаза.
— Пожалуй, вам лучше уйти, — сказала Бара, вставая из-за стола.
— Э-э нет, дорогуша, так не пойдет. Ведь это не я завела речь о вашем отце и его самоубийстве. Зато я заглянула в Комитет по статистике, полистала свидетельства о смерти. И вы знаете не хуже меня, записи Комитета по статистике никогда не лгут, не то что некоторые граждане.
— Мне нечего больше вам сказать, — выдохнула Бара.
Ага, носик-то уже не приклеен к потолку, да и голосок взял тон пониже.
— Я полагаю, вы потому завели об отце речь, что уже давно хотели выговориться. Слишком тяжело хранить такое одной…
— Какая чушь! — взвизгнула хозяйка дома. — Тоже мне, психолог выискалась!
— Психолог не психолог, а свидетельство о смерти датировано шестью месяцами после исчезновения Сольвейг. В свидетельстве ничего не сказано насчет самоубийства. В графе «причина смерти» прочерк. Ну конечно, семейка-то у вас не из тех, чтобы публично признаться в самоубийстве, это же какой позор, фи, дяди в шляпах и сюртуках будут показывать пальцем. «Скоропостижно скончался у себя дома» — вот и все, что я прочла в свидетельстве.
Бара повернулась к ней спиной.
— Знаете, а я еще не потеряла надежду, что у вас хватит совести сказать мне правду, — кинула козырного туза Элинборг, тоже вставая из-за стола. — Ведь зачем-то же вы помянули отца, не так ли? Значит, он как-то в этой истории замешан. И напрашивается вывод — уж не он ли сам сделал Сольвейг ребенка?
Ноль реакции.
Женщины стояли посреди шикарной гостиной, и мертвую тишину, наполнившую комнату, можно было, казалось, пощупать руками. Элинборг еще раз оглядела обстановку — сколько всяких вещичек тут и там, портреты хозяев дома, золото да серебро, блестящий черный рояль в углу, фотография Бары под руку с лидером Прогрессивной партии, поставлена так, чтобы всякий входящий немедленно ее замечал. Не дом, а склеп, подумала Элинборг, отовсюду несет мертвечиной.
Наконец Бара тяжело вздохнула и, не переменив позы, произнесла:
— У каждой семьи есть своя ужасная тайна, разве не так?
— Ваша правда, — поддакнула Элинборг.
— Нет, это был не папа, — не сказала, а выдавила из себя Бара. — Я не знаю, почему солгала вам в тот раз, мол, он умер прежде сестры. Не совладала с собой. Вы угадали, конечно, я давно хотела с кем-нибудь этим поделиться, так меня жгло изнутри. Столько лет молчать, столько лет, а тут появляетесь вы с этой историей про Сольвейг, которая сто лет как спит на дне морском, над ней саженей пять. И тут во мне что-то сломалось. Не знаю, почему я не сказала правду сразу.
— Ну так кто же тогда?
— Папин племянник, — сказала Бара. — В Приречье. Мы часто ездили туда летом, и вот в один из визитов…
— Как это выяснилось?
— Сестра вернулась сама не своя, словно другой человек. Мама… мама сразу все поняла, да и как такое скроешь, через несколько месяцев все стало ясно.
— Она рассказала матери, что стряслось?
— Да. Папа сразу же поехал на север. Что он там делал и говорил, я понятия не имею. Он вернулся, и к тому времени родственники выслали парня вон из страны.[50] Об этом ведь небось слухи ходили, там, на хуторах в Приречье. У дедушки там был огромный дом. И детей у него было только двое, папа и его брат. Папа покинул родные пенаты, переехал в столицу, стал большим человеком, близким соратником самого Ионаса, Ионаса с Хривлы.[51] Боготворил его.
— А что с племянником?
— А ничего. Сольвейг сказал, что он сошелся с ней против ее воли. Изнасиловал ее. Родители не знали, что им делать, они не хотели тащить мерзавца в суд, ведь это же какой скандал, народ только об этом и будет говорить. А он вернулся много лет спустя обратно и поселился в Рейкьявике. Завел семью. Умер лет двадцать назад.
— А Сольвейг и ее ребенок?
— Было решено, что Сольвейг сделает аборт, только она наотрез отказалась. Отказалась, и все тут. А там бах — и в один прекрасный день исчезла без следа.
Бара наконец повернулась лицом к Элинборг.
— Эта летняя поездочка в Приречье, можно сказать, погубила нас. Погубила всю нашу семью. История легла тенью на всю мою жизнь. Все эти семейные тайны, семейная честь, семейная гордость. Мы же ох какие гордые были, только держись! Никто не смел ни слова об этом сказать. Мама тщательно за этим следила. Я знаю, она позднее говорила с Беньямином, объяснила ему, как было дело. А так все устроилось преизящненько и само собой, и вдруг оказалось, что это все дело одной только Сольвейг. Ее личное дело, собственный выбор. Умопомрачение на нее нашло, понимаете ли. А мы остались чистенькие, как с гуся вода. И с нашей точки зрения все было в порядке. Это просто с Сольвейг что-то стряслось, ну мало ли, сбрендила девица, да и нырнула в море. А мы остались в белых брюках, такие нивчем-невиноватые-нивчемневиноватые, совершенно ни при чем.
Элинборг смотрела на нее, пока наконец не нашла в себе силы испытать к хозяйке дома долю жалости — ведь это же надо, всю жизнь прожить во лжи.
— Она взяла все на себя, — продолжила Бара. — А мы остались не затронуты. Ее дела — ее дела. Мы ни при чем.
Элинборг кивнула.
— Это не она там лежит, на Пригорке, — сказала Бара. — Она лежит на дне морском, лежит там уже целых шестьдесят мерзких, проклятых лет…
Поговорив с врачом — тот повторил то же, что и раньше, состояние девушки не меняется, лишь время покажет, станет ей лучше или нет, — Эрленд вошел в палату к Еве Линд и сел подле. Он думал, о чем рассказать ей в этот раз, и снова не смог ни на что решиться.
Шли минуты. В отделении интенсивной терапии стояла тишина. Иногда мимо дверей палаты проходил какой-нибудь врач или сестра. Вот же выдают им обувь — какие-то белые, мягкие не то кроссовки, не то кеды, на резиновой подошве, так ужасно скрипят по пластиковому полу.
То ли скрип, то ли свист. Тьфу, гадость. Эрленд тряхнул головой и ни с того ни с сего, словно не по своей воле, заговорил тихим голосом.
Сама собой выбралась его любимая тема — пропавшие без вести. Особенно один случай. Он давно ломает над ним голову, до сих пор ломает, и все никак не может понять, что тут к чему.
Был, начал Эрленд, один юноша. Еще мальчиком он с родителями приехал в Рейкьявик с родного хутора, и хотя тот располагался аккурат у черта на куличках, всю жизнь скучал, до боли скучал по нему. Он был слишком мал, чтобы понять, отчего да почему они вдруг взяли да и переехали в столицу, которая еще, по сути, и не могла именоваться городом, так, крупный торговый поселок у моря. Лишь много лет спустя он понял — тому переезду было много причин.
Новое место с первого же взгляда показалось юноше чуждым и недружелюбным. Он ведь вырос на хуторе, с коровами да овцами, в полной изоляции от «большого мира», и жизнь его была простая, хуторская — теплое лето да жестокая зима да истории про предков, которые жили повсюду в округе, такие же хуторяне, как и его родители, бедные, что церковные крысы, из поколения в поколение. Эти вот люди и были главными героями историй, которые ему рассказывали в детстве и во младенчестве, и говорилось в них про хуторскую жизнь, хорошо ему знакомую. Истории самые обычные, какие случаются каждый день и какие то и дело случались целые столетия напролет, про полные опасностей переходы через пустоши, да про неурожай, да про голод, а еще про всякие более приятные события, порой такие невероятные и смешные, что рассказчики едва не помирали от хохота, хватались за животики, складывались пополам, кашляли, да просто валились на землю и дрыгали всеми четырьмя конечностями. И во всех этих рассказах действовали люди, которых юноша сам хорошо знал, или видел, или слышал, ведь кроме них никто в округе и не жил — вот тот приходится отцу двоюродным братом, а та — троюродной сестрой матери, а у тех общая бабушка, а у тех — общий пра-прапрадедушка, и так от наших дней вспять до самого заселения острова. Он всех этих людей знал по рассказам, даже тех, кто давно умер и покоился на местном крошечном кладбище вокруг старинной окружной церкви, в которую давным-давно заколотили вход; а в рассказах говорилось и про повивальных бабок, которым не страшно было перейти вброд ледяную реку, если они знали, что на другом берегу рожают; и про хозяев, бесстрашных людей, готовых идти спасать скот в самую распроклятую погоду; и про наемных работников, которые погибали на пустошах, в мороз отправившись за скотом в горы; и про перепившихся священников; и про привидений и духов-двойников; про жизнь, которая была частью его самого.