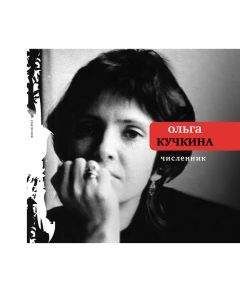Ольга Кучкина - В башне из лобной кости
Толян, давай выпьем за твою Тоню, обдумав каждое слово, возвратилась я к столу. Давайте, засиял он. Она, с серьезным выражением, подняла рюмку. Мой муж радушно разрешил: живите у нас, сколько хотите, вот сколько хотите, столько и живите. Тоня коротко взглянула на своего бывшего мужа, он в этот момент тянулся за помидором. Она перевела взгляд на моего мужа нынешнего: а работа, а зарплата? Какая у вас там зарплата, осведомился мой муж. Примерно сто долларов, с достоинством подсчитала Тоня. Ты что, не найдешь жене работу на сто долларов, обратился муж к Толяну. Толян приосанился: и покруче найду, она классный бухгалтер. Мы выпили.
Максим пошел за тортом, который дожидался своей очереди в холодильнике.
Они с Катей уписывали большие куски, как маленькие, а я, глядя на них, бездарно провидела, каких синяков и шишек наставит им жизнь прежде, чем юная кожа сморщится, глаза потеряют блеск, волосы начнут редеть, а ожидание счастья обернется житейской прозой. Жестока жизнь.
Тени на веранде образовали причудливые формы, в каких таяли вчера и сегодня.
73
Подруга Анна, заглянувшая на часок отдать копеечный долг, бросилась на итальянский диванчик с несчастной физиономией: ты знаешь, мне принесли пленку, я была в гостях, хозяева снимали на видео, говорили, как замечательно выгляжу, а посмотрела — ужас, ужас и ужас, никогда бы не подумала, не знаю, что с этим делать. Я собиралась сказать: ужас, но не ужас, ужас, ужас, и избавиться от этого нельзя. Не собралась. Вместо этого сказала другое: Аня, у всех одни и те же проблемы, если не сейчас, то скоро, и у меня такая же, фишка в том, что мы видим себя внутренним взором, а там то, какими мы себя ощущаем, девочками и мальчиками, а когда зеркало или видик, внезапно застав, показывает нам нас такими, какие есть, мы испытываем шок, это нормально, но парадокс, и потрясающий, заключается в том, что те, кто нас знают, и не только знают, а любят, видят нас такими же, какими видят нас наши внутренние очи, поверь, это правда.
Я не врала. Я говорила то, что есть. Кто мы и куда идем — тайна, сопряженная с нашим старением, в котором не одно умирание, а и преображение. Допустим, мы себя обманываем. Допустим.
Дальнейшему разбегу мысли помешала лобная кость. Мысль уперлась в нее и застряла.
Анна раздумчиво пробормотала: да вроде бы им резона нет врать, моим друзьям, и если им не так противно глядеть на меня, как мне, ты, наверное, права, и все равно я не знаю, что делать. Не смотреть в зеркало и не смотреть видики со своим участием, выписала я рецепт, помнишь, как артистка Бабанова, с ее обворожительным голосом и обворожительным лицом, перестала сниматься, перестала играть, не выходила из дому, занавесив окна, чтобы не видеть себя при дневном свете, и примерно так же поступила Гарбо, удалившись от людей на сорок лет. Меня явно повело не туда.
Санек, обратилась я к своему другу Оперу, сидя напротив него через час в кофейне на Новинском, Санек, ты у меня первый умник, ответь, будь любезен, на очень важный вопрос: у меня одно и то же лицо на протяжении лет, что ты меня знаешь, или нет. Глупее вопроса нельзя было придумать. О каких летах ты говоришь, воскликнул умник Опер, когда оно у тебя разное на протяжении не лет, а дня. Опер, вцепилась я в него, еще раз, и твердо, меняются ли у меня лица, ну. Ну, конечно, невозмутимо откликнулся Опер, а разве у меня одно и то же лицо, ты посмотри, посмотри внимательно и сравни с тем, что видела в последний раз. Я посмотрела. У Санька было другое лицо. Мы — художники, впаривал он мне, это пускай обычная публика не сечет, считая, что как Иван Иваныч явился вчера, так явится и сегодня, и завтра, а мы же с тобой видим и понимаем, что в Иван Иваныче тыща Иван Иванычей, только вовне это не пробивается или пробивается скупо, скудно, прячась в глубинах Иван Иваныча, но зрение некоторых из нас, художников, устроено таким образом, постоянно или спонтанно, что в каких-то острых случаях внутренняя проекция вылезает наружу, и мы видим перекидчика, то есть замечаем, как человек перекидывается, любой, потому что нет ни единого существа, которое раз и навсегда застыло в своей внешних или потаенных очертаниях, ну да, время само по себе делает свою работу и изменяет очертания, но это и дураку очевидно, а вот то, что такая работа совершается с человеком поминутно, и он сейчас великодушный, а через минуту злонравный, или с тобой великодушный, а со мной злонравный, и это все равно как с тобой блондин, а со мной брюнет, такие вещи человечеству в его массе пока не открылись, откроются попозже, когда дойдут руки, пока что занятые другим, а пока человечество занято другим, оно посылает разведчиков в эту и иные сферы, и первые разведчики — художники, потому что художественное воображение существует не просто так, а осуществляет порученную ему миссию: вторгаться туда, куда не дотягивается более примитивная субстанция, рассудок, так что да, все так и есть, человек-перекидчик соединяет наше нескончаемое неведомое прошлое с нашим нескончаемым неведомым будущим через наше конечное неведомое настоящее.
Меня била лихорадка.
Он произнес слово, которое я никогда не произносила вслух.
Саня, Саня, Окоемов был перекидчик, прошептала я, я никому об этом не рассказывала и не писала, считая, что меня сочтут безумной, но когда прочитала, что его вдова водрузила на могиле памятник без лица!.. Что-что, переспросил Саня. А тебе не попадался журнал с моей публикацией, перебила я. Саня отрицательно покачал головой. А еще друг, укорила я его. Слушай, какие публикации, взорвался он, я разворачиваю новое дело, открыл свою компанию, Опер и K° называется, изготавливаем полиграфическую продукцию по заказам, от гламурных журналов до спичечных этикеток, кстати, сейчас идет обалденный заказ, выйдем наконец в ноль, после чего надеюсь на прибыль, потому что до сих пор работали в убыток, кручусь как заводной, удача, что сегодня вырвался, а ты говоришь, публикации. Ты же художник, Опер, потрафила я его самолюбию. С пяти до семи утра, в высях, в бане на втором этаже, живо откликнулся он. Что с пяти до семи, не поняла. Художник, разъяснил он, с пяти до семи в высях, с семи на землю, в додж, и понеслась, а роман скоро дам, 800 компьютерных страниц, и ты думаешь, что у меня одно и то же лицо, когда я работаю над спичечными этикетками и когда над романом, надеюсь, ты так не думаешь.
Я не думала.
Значит памятник без лица, подытожил Опер, это круто. И засмеялся: а был ли мальчик?
Я не стала говорить ему о встрече с Василисой. И о белом мерседесе не стала. Как будто это были не факты, а фантазии, какими я могла делиться, а могла не делиться. Меня вдруг заинтересовало, а как бы выглядел Санек на той тусовке, где всякий перекинулся по-своему. Он отсутствовал на ней по чистой случайности, а было там ему самое место, я не сомневалась. Было же оно мне, и даже моему чистому мужу — почему не Саньку.
Фантазийная девочка, говорила мне моя мама.
Дома, по сложившейся привычке последних дней, читала Бунина. На странице 199 восьмого тома прочла: «У Чехова каждый год менялось лицо».
74
Муж Лики умер через неделю, так и не выйдя из реанимации и не придя в сознание. Я слушала зареванную молодую женщину, сидя напротив нее, как в воду опущенная, в той же кофейне, где сидела напротив Санька две недели тому, летя, как воздушный шарик. Лика плакала, не вытирая слез, слезы высыхали сами собой, она отвлекалась на другое, увлекалась, почти смеялась, забывая, и снова начинала рыдать, вспомнив. Мне знакомы эти состояния, когда большая беда внезапно исчезает из памяти, точно при каком-то повороте черное слепое пятно на месте картинки, была и исчезла, однако минимальное движение, и на месте черного пятна восстановленная картинка, как была, так и есть, и ты сознаешь, что есть жуткая реальность, которая отныне никуда не денется. Может быть, мозг так лечит себя, пользуясь хотя бы секундной передышкой, во сне или наяву, чтобы не сгореть от невыносимого перенапряжения. Он такой молодой, моложе меня, причитала Лика, ну да, у него было давление, а он уговаривал меня, что организм здоровый, справится, упрямый, как не знаю кто, а когда я приставала, говорил, не будь занудой, и я отступала, потому что не хотела быть занудой, мы же товарищи с ним по жизни, я не знаю никакой другой пары, кто жил бы так, как мы жили. И вдруг без перехода: я буду, буду снимать это проклятое кино, во что бы то ни стало, что бы ни было, я буду, я не сдамся, ради нас двоих, он верил в наш фильм, я не могу его подвести и я не подведу.
Лика, я встречалась с Василисой, сказала я. Да вы что, и молчите, давайте, пункт за пунктом, велела Лика, и глаза ее загорелись. Я дала, пункт за пунктом. Исключив один — о многообразии ликов. Лики, по-прежнему утаенные от Лики. А что за картины, о каких картинах речь, цепко ухватилась она за новую для себя тему. Я дала и это. Мне казалось, чем больше я даю, тем больше отвлекаю Лику от ее беды. Но в какой-то момент поймала остекленевший взгляд, сквозь который ничего не просвечивало. Картинка опять сместилась, она видела и слышала только одно: что любимого человека нет и никогда не будет, а все прочее — песок и песок, намытые временем песчаные холмы, под которыми погребена любовь и жизнь. Лика, я взяла ее за руку, Лика, девочка, сейчас это невозможно представить, и вы простите меня за то, что я говорю, но вы будете счастливы, я вам это обещаю, вы будете любить его, и любить еще, и вас будут любить, и вы изведаете много чего, о чем сейчас и помыслить не можете, за что будете любить жизнь, хотя она такая сучка. Сучка, сучка, подхватила Лика с жаром, услышав только это, и я не могла ее судить, зная, что и остальное она услышала, не фиксируя, нечем фиксировать, когда все сосредоточено на невосполнимой потере. Люди, теряя близких, теряют часть себя не фигурально — буквально, потому что их обволакивают общие волокна, про которые мы мало что знаем, а они есть реально, и когда рвутся, это приносит ни с чем не сравнимую боль. Как Толяну, хоть Милка и жива.