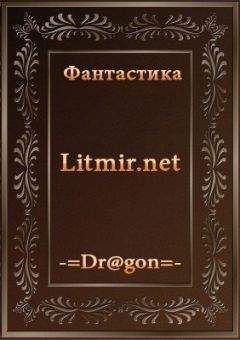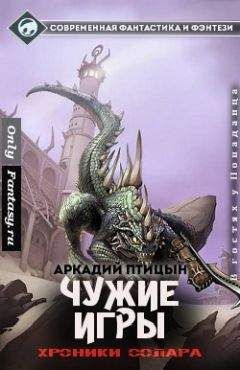Виктор Рябинин - Каждый умирает в своем отсеке
— Один хрен, ничего не изменилось, — заскулил Мусса, — они нас в Лейпциге достанут. У них же цепочка до самой границы.
— Так надо порвать эту самую цепочку на фиг, — возмутился Андрей. — Тоже мне, гангстеры хреновы!
Мусса тем временем немного успокоился, допил свою желтоватую жидкость и в сердцах злобно пнул лежащего мордоворота в бок.
— Пойми ты, дурья твоя башка, в бизнесе у каждого своя ниша. Они не грабят, они свое берут.
— За что свое?
— Да вот за то. Сейчас мы бы им отстегнули - и до самого Лейпцига для нас — зеленая улица... У них с поляками все поделено. На этой ветке Толик Брестский промышляет. У него все концы. И никто не возражает. Понимаешь, это лучше всего, когда ниточки в одних руках. Иначе - беспредел. Тебе хочется беспредела? Мослами махать многие умеют. Ты бы лучше умишко напряг. Нет, разочаровался я в тебе, кореш. Рано тебя послали...
Андрей на какой-то момент даже расстроился, так как устыдился своего поведения.
— Может, обойдется?
— Ладно, проехали. Но кореш ты, вижу, надежный. Спасибо. А с этим что будем делать?
Будто его услышав, дюжий налетчик заворочался на полу, открыл зенки, уставясь на Андрея:
— Чем это ты меня оглушил?
— Поленом.
— Ага. Крепко! Ну ничего, посчитаемся...
— Хочешь сейчас?
— Развяжи, если не ссышь.
Поезд уже набрал полный ход. Андрей нагнулся и решительно распутал на парне узлы. Тот потер онемевшие руки, задумчиво улыбаясь. Осторожно встал.
— Ну! - поощрил его Андрей.
Парень встретился с ним взглядом и перевел глаза на Муссу.
— Оставим до другого раза.
— Как пожелаешь. - Андрей раздвинул двери, но не до конца, а только чтобы можно было пролезть. — Прыгай, голубок.
Парень не удивился, подошел к щели, выглянул. Поезд мчался на всех парах лесным перегоном. Воздух свистел и хлопал, как бич надсмотрщика африканских рабов. Андрей сделал шаг по направлению к парню, и тот понял, что гораздо разумнее будет прыгнуть самому, чем вывалиться из вагона после сочного пинка. Выматерился, потом, лихо гикнув, вылетел наружу. Андрей тотчас высунул следом голову, но никого не обнаружил. Похоже, парень укатился в лес или попал под колеса. Впрочем, последнее было маловероятно.
На следующей остановке их навестил начальник маршрута - широкоскулый, крутолобый пожилой железнодорожник, по внешнему виду из тех, кто в брежневские застойные годы получал за самоотверженный труд ордена. Все звали его Степанычем.
— Что, хлопцы, пощипали вам немножко? - спросил он участливо.
— Не-е, Степаныч, — с неожиданной гордостью объявил Мусса, — Андрюху голыми руками не возьмешь.
— Да ну? - удивился железнодорожник, протирая не очень чистым платком лоб. - А остальным досталось крепко. Налетели, понимаешь, как саранча. Обобрали до кальсон, кол им в дышло.
— Да если б не Андрей, и мы бы голым задом сверкали, — засмеялся Мусса.
Степаныч внимательно посмотрел на новенького. Покачал головой — не поймешь, одобрительно или порицая: — Гляди, сынок, особливо не зарывайся. Тут нынче по путям самая отпетая погань шарит. Только что без клейма, мерзавцы!
— Спасибо за предупреждение.
Тем временем неуемный Мусса побежал в станционный ларек, чтобы пополнить запасы продовольствия, а вернее, надо полагать, за спиртным. Степаныч проводил татарина осуждающим взглядом и посоветовал:
— Попридержи Муссу с вином. Если нажрется, то намаешься с ним.
— Да вроде он паренек аккуратный и неглупый...
— Аккуратные и неглупые дома сидят, а не мотаются с ворованным товаром по закордонью. Извини, сорвалось...
— Я тоже так считаю, — согласился Андрей, а сам про себя невольно подумал: неужели Пашка его обманул и товар и впрямь ворованный? Надо во всем досконально разобраться. И поскорее...
Через двое суток уже без всяких злоключений состав прибыл в немецкий город Лейпциг.
24. НА ХАЛЯВУ И УКСУС СЛАДКИЙ...
После официальной части Абражевич организовал небольшое застолье в банкетном зале престижного ресторана, куда пригласил самых видных и заметных представителей творческой интеллигенции — всего с десяток писателей, актеров и иной братии. Но за столом, естественно, их оказалось заметно больше - человек тридцать. Узнав о грядущем бесплатном угощении, творческий люд посчитал вполне возможным нахально "осчастливить" самого уважаемого Василия Васильевича своим присутствием, а заодно рвануть ту самую халяву, которой так щедра любая предвыборная кампания. В результате брезговать никем не приходилось, так как Абражевичу очень нужно было пролезть в депутаты.
"Творческий люд, конечно, во многом народец скользкий, сырой, хлипкий и выпендрежный, — рассуждал Абражевич, — но при некоторых обстоятельствах ему цены нет. Хотя идет почти задаром. Услуги двух-четырех именитых творцов прекрасного стоят ничуть не больше, чем работа хорошего печника, соорудившего на даче экзотический камин. Зато по моральным дивидендам несопоставимо".
Муть, словесная шелуха, неискренность, подхалимство и все прочее - после встреч с некоторыми из богемщиков матерый и многоопытный функционер Абражевич чувствовал себя так, как будто дерьма нахлебался. Но делать было нечего и приходилось терпеть и изображать из себя эдакого рьяного почитателя их выдающихся талантов. Рядом с Абражевичем восседал грузный, лет семидесяти, с набрякшими кровью щеками, с мокрым, в томатном соусе ртом и со слезящимися глазами маститый писатель Алесь Станиславович, известный тем, что когда-то в 91-м сжег свой партийный билет в Божьем храме с помощью восковой свечи. В прежние годы Алесь Станиславович был автором многотомных сочинений, прославлявших людей труда — пролетария и хлебороба, и на этой ниве намолотивший богатый урожай всех возможных отечественных премий и орденов. Старик был неопрятный, громогласный, шумный, лживый, как спившаяся проститутка, и Абражевич посадил его рядом с собой единственно по той причине, что тот был повсеместно узнаваем.
При первых тостах Алесь Станиславович вел себя прилично, насыщался икрой и гусиным паштетом, причем жрал так жадно, будто год до этого голодал. Но когда кто-то предложил обязательный тост "за народ, который несмотря на все временные лишения продолжает уверенно трудиться на благо страны", привычно взбеленился.
— А я не поддерживаю! - провозгласил он таким неожиданным сиплым басом, что в хрустальных люстрах закачались подвески.
— И правильно, — на всякий случай дипломатично заметил Абражевич. - Но разрешите поинтересоваться - почему?
Алесь Станиславович обиженно смахнул слезинку, разъяснил, как малолетке:
— Да потому, уважаемый Василий Васильевич, что все эти байки про народ сочинены нашим братом писателем, который так ловок, шельма, продаваться за чечевичную похлебку. На самом деле никакого мифического народа в природе не существует, а есть только хам и лодырь, который без хорошей плетки и пальцем не пошевелит.
— Уж слишком сурово, уважаемый Алесь Станиславович, — возразил Абражевич, хотя задор правдолюбца был ему по душе. Он и сам давно не верил в эти поэтические теории об исключительности, долготерпении и вечной полудреме народа, но могущего, подобно богатырю Илье, в одночасье пробудиться и великим усилием спасти мир. Возможно, вдалбливать подобные высокие идеи в головы молодого поколения отчасти полезно, но разумного, мыслящего человека многие факты истории убеждают в обратном: народ, как послушная отара, всегда следовал за сильной личностью, лидером нации, не важно, кем он являлся — князем, царем, секретарем ЦК, — и действительно совершал великие деяния, в которых позже ни один юрист не разберет, чего там больше — героизма или злобы.
Лучшее тому подтверждение — новейшая история. Семьдесят с лишним лет тупо, с энтузиазмом и неистовым блеском в глазах (Абражевич это хорошо помнил) поддерживали коммунистический режим, хотя при нем треть населения перебывала в лагерях. Но стоило появиться блаженному дудочнику с блямбой на лбу, как тот же народ во все свои могучие легкие согласно завопил: "Перестройка, мать твою, перестройка!" Глядь, дудочнику дал под зад сокрушительного пендаля собрат по партии. И что же народ? Ведь его никто не спросил, лишив огромной и мощной страны, затем подло ограбил и "обгайдарил" и после этого послал в рынок, даже толком не объяснив, что это такое. Нет, народ — это словеса, которые употребляют в узких корыстных целях недобросовестные политики.
Как бы подтверждая его мысль, писатель Алесь Станиславович продолжал гневно гудеть:
— Хватит, наслушались! Да из этого вашего народа раба каленым железом не выжечь! Как был мужик крепостным, так им и остался! Для него только тот прав, за кем стоит сила. А мне все талдычат, мол, демократия, народовластие. Полно, господа хорошие! Если этому пьяному народу действительно дать власть, пугачевский бунт покажется святочной сказкой. Все это уже было в истории. Чем больше народу воли давали, тем гуще кровь лилась.