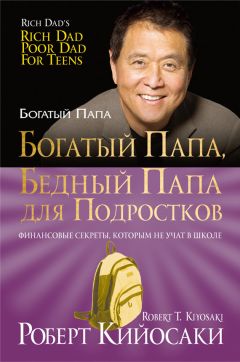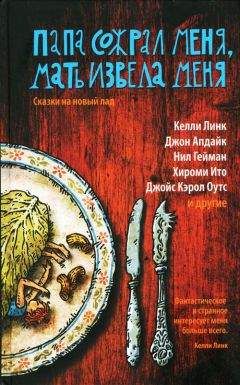Нара Плотева - Бледный
Он слышал спор. Его подняли на табурет. Кругом были люди: тесть со своими качками, органы.
— Тварь! — орал багровый от злобы тесть. — Тварь, Лена где?!
— Фёдор Иванович! — сказал следователь. — Позвольте-ка! — Был он в куртке, нервным кулаком сразу смазал Девяткина по лбу. — Как же вы, Пётр Игнатьевич, вешались, а про ваши дела мемуаров не написали… — С пола он поднял его за волосы на табурет. — Колитесь. Вы нам признание — мы вам шанс сдохнуть. Напишете — мы уйдём… Хотите, я вас сам вздёрну? — глумился следователь.
— Я ему прежде х… отщёлкну! — выругался тесть. — Гад, где они?! Что стоите, а? Шарьте!
— Плакали, Пётр Игнатьевич? — следователь воткнул ему в промежность остроносую туфлю. — Щёчки в слезах, ой-ёй! Плачьте. Вам так повезло, что, кому и скажи, уссутся. Вместо СИЗО такому, как вы, красивому, вместо зоны с пожизненкой, где вас, милого, будут бить, вас вздёрнут… Пётр Игнатьевич, — шепнул следователь, — будь уверен, уж сам заплатил бы, чтоб вас херачили каждый день три года, а на четвёртый — харей в сортир!
— Что вам нужно?
— Цыц! Начнёте, как я команду дам. Это вам будет нужно, чтоб не мучиться, а сразу… — Следователь толкнул его в пах туфлей и вновь отправил на табурет. — Такой расклад. Вы с признанием — мы с согласием вам повеситься. Вы, давайте, будете нам всю правду. Я текст проверю, как полагается, и повешу вас лично, чтоб без балды, чтоб завтра вам стопроцентную труповозку. За ночь вы сдохнете тыщу раз. Ваш выбор? Ой, не молчите, Пётр Игнатьевич! Вы и так висели! Мы вас спасли, чтоб вы выполнили ваш долг. У нас — как это врут в Америке? — воля. Вешайтесь! На людях смерть красна! Вы сами без принуждения здесь висели. Ценим ваш героизм, что вы сами себя казните.
— Я не виновен.
Тесть подскочил, но следователь сдержал его.
— Фёдор Иванович, вы платили мне? А мы знаем, как…
Он надел на Девяткина петлю и потянул, так что тот схватил верёвку.
— Вы, Пётр Игнатьевич, только что висели. Что ж цепляетесь вдруг за жизнь? Дай всё-таки придавлю… Что, душно? А ведь вы нравились мне всегда: занятный чел! Такому я окажу услугу… Сколько вы лет шкодили, а? Восемь? Сколько верёвочка ни вейся… Так получилось, козырь ваш бит. Не следовало глупить. Где ем — там не гажу. Любой знает. А вы нагадили, Пётр Игнатьевич, напортачили. А не надо б… Я с удовольствием половил бы вас год. А вы нагадили рядом с домом, вонь далеко пошла… Описывайте, где дочь с супругой, где и кого убили… хоть нескольких дам, не надо всех, и — вешайтесь.
— Я не…
Следователь сшиб его с табурета и начал пинать.
— «Не» — забудь! Нет таких слов, понял?! Есть «да»! «Не» — нет! Понял?!
Он ползал под сыпавшимися ударами и стонал, когда носок туфли вдруг ударял в рану.
— Фёдор Иванович! Гляньте!
Девяткина прекратили бить. На лестнице появился качок с письмом Лены.
— Дай-ка! — отобрал следователь лист и прочёл: — Не твоя… уеду… Катя от Глусского… он мой первый… Глусский его Кате даст… люблю его… хочу бурь… пребольшого земного счастья… даёшь свободу… дай её и себе… уеду… Нас не ищи… К юбилею буду… Катя… полодырничает… Скажи отцу… Кто писал? Чей почерк? Вам он знаком? — Следователь вручил лист тестю.
Все ждали, глядя то на Девяткина, сидевшего на полу, то на обстановку дома, которого ни один из них себе не мог бы позволить. Кто-то бродил по кухне, хрустя стеклом.
— Почерк Лены, — сказал тесть. — Гнев его схлынул, он выдохнул облегчённо. — Лена завтра здесь будет.
— А с этим? — кивнул следователь.
— С ним — хрен… Неудачник, — заулыбался тесть. — Был неудачник, им и остался… Сволочь… не мог сказать… написано ведь: «скажи отцу»… изводил меня, сволочь, инфаркта хотел… Дочь… она поняла… Пускай. Он, размазня, себя не убьёт, не то что… Он как увидел, небось, нас — вешаться, чтоб спасли… чтоб передали, как мается… Лена бросила его, факт! Развод… Завтра все будьте в гости! Я приглашаю. Я познакомлю вас с новым зятем! Это вам не кино с Абрамовичем — это во плоти! Всем подарки! С жёнами! Эта шваль пусть здесь… Грешно было б сажать, мы ведь люди, так? — хвалился тесть. — Пусть уйдёт или смотрит, как Лена с Глусским… Может, он мазохист?
Катя-то, Катя, внучка, — знаете, что дочь Глусского? Его — знаете?
— Знаем! — сказали все.
— Он увидел письмо и скис… — Тесть сморщился. — Пьяный, грязный… Скот! Настоящий мужик пришёл бы, выяснили б по-мужски, нашёл бы я ему место. Завтра пошлю прислугу, всё приберут…
И, шумно, весело объясняя про дочь и Глусского, тесть увёл всех.
Девяткин ночь просидел под лестницей у стены, слыша, как ходят, смеются, бормочут Лена и Катя.
Суббота
Так он и встретил горничных и прислугу, присланных тестем. Даже когда они, поздоровавшись и косясь в его сторону, уже прибирались, он продолжал сидеть у стены, уставившись в одну точку, — впрочем, фиксируя суету и шумы вокруг. Лишь когда завозились с ним рядом, вышел чёрным ходом вон.
Солнце всходило, заря золотила травы; не было и следа тумана, всё вспыхивало росой. Палатки, гирлянды, флаги для юбилея сияли, и было празднично, хотя в проходе, который разделял дома и уводил в поле, грохотал экскаватор. Но и это нормально — мир очнулся от тумана и кипел действием. Оборванный, со ссадиной на щеке, Девяткин прошагал по газону к белой скамейке и сел лицом к солнцу. За стеной гремела техника.
Он знал, что будет. Ему было всё равно.
Прораб твердил: «В субботу работ не будет», — но они были.
Клоун не мог быть во всех окнах сразу — но был.
Лены не было — но она была… Даже сказала, что это его, Девяткина, не было и не будет.
Кругом — ложь, реальная ложь. Истина же невидима.
Он знал, что будет. Но был спокоен. Он был спокоен, как и с Мариной в «Форде», как и у окна московского банка. Он больше миру не принадлежал. Мир не принадлежал и сам себе. Мир кончился. Чем ярче солнце и чётче вещи — тем хуже миру, выбравшему ясность и чёткость своими маяками, выхолостившему свою суть, чтобы стать муляжом.
Мир болен, смертельно болен.
Это был мир семи нот, которыми он глушил песнь вечности.
Это был мир анализа вместо счастья.
Это был мир, который вывел жизнь за скобки.
Мир упростил себя и стремился к абсолютной пустыне. Мир замкнулся в том, что Платон назвал пещерой.
Девяткин видел, как роют землю.
Когда строители к десяти утра по проходу между домами двинулись к полю, люди Влада из ресторана прибыли сервировать столы.
— Простите!
Сбоку ждал знакомый прораб.
— Вчера, — объяснял он, — я обещал… Но, знаете, дали приказ… Клянусь, кчасу кончим. Вы извините. Я понимаю: праздник.
Девяткин смотрел на солнце — символ обмана, сделавшего правду ложью, а ложь назначившего правдой.
Он был спокоен. Раз мир фальшив, чувствовать что-либо в нём — лишнее. Он и не чувствовал.
Одновременно… Нет, почти одновременно пришли гости, в том числе тесть со следователем, Влад с женой, Дашка в лазурном платье, Сытин в смокинге, друзья и подруги Лены с детьми, с мужьями, с жёнами и совсем неизвестные люди. Пришла милиция, приглашённая тестем. Довольная праздничная толпа, сверкавшая запонками и колье, часами и украшениями, слонялась по участку, переговариваясь. Девяткин слышал приветствия, но не отвечал, лишь Сытину улыбнулся.
Музыканты начали играть джаз, пытаясь заглушить грохот стройки; официанты пошли с подносами; дети бегали.
Прибыл Глусский и привлек общее внимание — как богач и как гвоздь интриги, связанной с женой тупо сидящего человека в рваной рубашке.
Лены не было.
Одновременно… Нет, почти одновременно замолчали вдруг экскаваторы, копавшие за стеной. Девяткин даже не повернулся, когда все вдруг расступились перед рабочими.
Он знал, что сейчас будет. Он должен был, наконец, стать тем, чем может быть, но ещё не есть. Он был готов к бытию максимально осуществлённых возможностей.
Все молчали, когда его вели прочь. Тесть стоял на коленях около трупов. Дашка, прикрыв рот, застыла. Сытин затянулся сигарой и чуть кивнул ему. От толпы отделилась Тоня и пошла за ним в отдалении.
У ворот он, задержавшись, глянул на плачущую Тоню и на дом, над которым, вытянувшись на нитке, висел клоун.
Он знал, что будет. Из машины, куда его сунули, он видел, как дорога вдруг пошла вдоль трещиной.
Следователь повернул в объезд.
Ночью на всей Рублёвке не было света. Из опечатанного, окружённого лентой дома вышли две фигуры, маленькая и большая. Они долго смотрели в небо — кажется, на Алголь. Затем двинулись к зарослям роз и большая протянула ладонь. Тогда клоун, медленно к ней припав, вспыхнул жаркими фантастическими огнями и резко пошел вверх, превращаясь в несущийся к звёздам шифр.