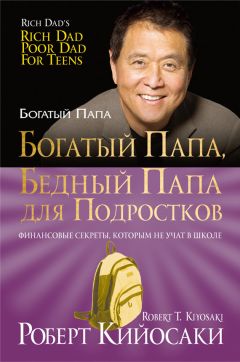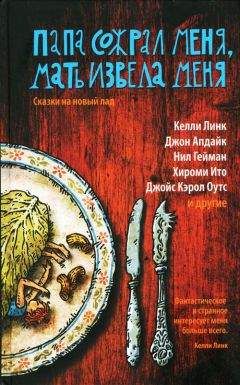Нара Плотева - Бледный
Чему, однако?
Законам? Мнениям? Этике и эстетике, для которых он маньяк? Сдаться предвзятым выдуманным представлениям? Сдаться — лжи? Но, если он туда пойдёт, получится, что он раб глупости. Пусть сами придут…
Он брёл вдоль шоссе домой. Рано, часов шесть. Редкие машины навстречу разгоняли туман, попутных не было… Наконец он свернул на свою улицу и услышал звуки стройки. Вроде бы ещё рано. Либо часы врут, либо аврал… Впрочем, всё лжёт, он это понял отчётливо после слов Сытина. Если вправду девять десятых Вселенной — тёмный и беззаконный, неназываемый, невыражаемый… что? Если этот таинственный мрак велик, а человечий мир мал, то почему малость вдруг объявляет себя венцом? Не может ведь малость быть правдой — а ПРОЧЕЕ, предвечное, быть негодным и подлежащим правке? Если, кстати, у этой Земли есть лидеры, — то кто лидер тёмных пространств, где всё случается, где нет невозможного, где клоун заглядывает одновременно во все окна?
Ему вдруг стукнуло в голову так, что он остановился, — вдруг клоун и есть «некий вид жизни»? В ужасе он представил, что, когда туман уйдет, всё — здания, провода, небо — всё будет в клоунах, в бледных пузырях с красным глазом… Оттолкнув видение, он шёл дальше и думал. Случись такое, он со своей грядкой роз, плацдармом хаоса, будет именно Антихристом, пропустившим в мир иное…
— Бред! — крикнул он, отгоняя догадку, что пластиковый надувной клоун — порождение хаоса. Тем не менее ни одна из попыток убрать дурацкий пластиковый мешок не удалась.
Он морщился, потому что шагал в самый шум. Мелькнули машины. У рва кран тянул за конец трубу. Самосвалы стояли впритык к въезду на его участок, который оградой защищался от вывороченной глины. Ограду Девяткин с трудом узнал: даже сквозь туман видны были гирлянды вычурных ламп и цветы. Он встал, как вкопанный, около ревущего крана, решив, что ошибся и дом не тот. Поэтому, когда сзади его окликнули, он не сразу ответил.
— Вы, говорю, отсюда?
Он, вспомнив про юбилей и нанятых Леной людей, которые, видимо, уже украшали дом, произнёс:
— Да.
— У вас праздник? — спрашивал хорошо одетый по сравнению с грязными рабочими человек — прораб или другой босс.
— Завтра, — сказал Девяткин, — у нас с женой праздник.
— Я сожалею. Мы вам подпортили. Рано или поздно приходится всё чинить. Не предусмотришь.
— Приходится, — отвечал Девяткин, продолжая стоять.
— Красота! — кричал босс сквозь грохот. — Но завтра мы не работаем. Не должны! Отпразднуете. С понедельника мы пройдём между домами к северу, вашими тылами и полем к Жуковке! В четверг о нас забудете. Не волнуйтесь! Выровняем грязь, травкой засеем. Такой у нас европейский стиль.
Девяткин кивнул.
— Нам завтра… чтоб тишина была.
— Будет. Я так надеюсь, — сказал босс.
Девяткин прошёл в калитку. Дорожки были окаймлены лентами, на газонах слева и справа стояли детские надувные замки, весь дом был в гирляндах. Девяткин ступил в холл, там тоже всё было в праздничной мишуре, она вспыхнула и заблестела, стоило включить свет. Наверху он тронул дверь спальни. Заперто. Он не хотел входить, побрёл в спальню Кати. Сумраком и тишиной дышали вещи; всё будто умерло. В окнах что-то блестело, он пошёл взглянуть. Вид за домом переменился. Площадки с обеих сторон аллеи были заставлены белыми палатками, виднелись сквозь туман павильоны. Кажется, была даже эстрада для музыкантов и надувные шезлонги. Так же, как на фасаде, всё было в лампах и блёстках. Сойдя вниз, Девяткин с ножом побрёл к клоуну, понимая, что ничего не выйдет. Он шёл по дорожке, слушал грохот стройки и глядел под ноги. Даже подойдя к розам, он знал — не выйдет. И дотянуться, наступив на бордюр, — не выйдет. В этот миг раздались шаги. Обернувшись, он увидел деву в бархатных коротких брючках, с лошадиным лицом.
— Тебя выпустили! — взвыла она и, подойдя, дала ему в нос. Как герой фильма, сносящий побои, он терпел, пряча нож за спину. В этот миг он не думал о деве, но усмехался вновь спасшемуся клоуну. В этом было что-то мистическое.
— Мразь! — дева пнула его вдруг туфлей. Ей нужна была провокация, нужен был инцидент. — Мразь, выпустили?
Он пятился, чуя, как близок к убийству, в котором тоже не был бы виновен. Другой знал бы, что делать, а он, с длинным ножом в руке, с заявлением этой девы в милицию, ничего уже не мог. Ему бы инкриминировали любое проявление силы. Он пятился к дому, надеясь, что она остынет.
— Мразь!
— Лжёшь, — возражал он. — Я не виновен. Я тебя не коснулся… — Обычно спокойный и не знающий ярости до этой череды случайностей, он решил, что хороший Антихрист не должен кипеть активностью. Он уже знал, что креативно лишь недеяние, а всякое же деяние чем активней — тем больше вредит жизни. Собственно, недеяние — действо без цели, пришедшее из подсознательных древних бездн.
— Мразь! — завывала дева. — Мразь!!!
Она кричала, соседский пес возбуждённо лаял. Окажись здесь следователь или ещё кто-нибудь, все бы признали, что он угрожал ножом даме, обвиняющей его в насилии. Заскочив в дом, он запер дверь и, припав к ней, трясся от пережитого ужаса и от ударов рвавшейся внутрь девы… Всё с утра шло криво, всё срывалось в абсурд, влекло в хаос. После беседы с Сытиным, успокоившей его, он думал, что войдет в этот день тихо, завязывая последние узлы прошлого перед новым. Фиг…
Главное, клоун и на этот раз спасся, и это — знак.
Он держал оборону от девы и лишь на миг сбегал поглядеть, заперт ли чёрный ход. В милицию он не мог звонить, не желая выслушивать намеки следователя. «Дама мстила за оскорбление своей чести в рамках закона», — выразился бы хам с кобурой под мышкой. Дева упорно звонила в дверь. Он отключил звонок и следил, как, обрывая по пути гирлянды, она в конце концов ушла. Девяткин сидел на корточках у стены и думал… Нет, он не думал. Лишь сожалел, что Катю не закопает, как собирался, так как скоро придут из фирмы люди для обустройства праздника, да и дева может вернуться… Он лёг в гостиной, но от напряжения не мог сомкнуть глаз. Он вообще не мог оставаться в доме.
Когда пришли люди, он, делая вид, что одобряет их планы, спрятался на газоне в один из детских надувных замков.
Потом, вспомнив про тестя, он возвратился в дом. Горничные сказали, что тестя не было. Он проверил, не открывал ли кто спальню.
После обеда явился тестев качок — спросить про Лену — и, услышав, что Лена «делает шопинг», отбыл, подозрительно оглядев его.
Выпив пива, он долго отвечал на звонки подруг Лены, подтверждая: в полдень, в субботу. На участке суетились, он сидел в гостиной с открытой дверью, чтобы встретить тестя, если появится. Отметил, что Тони нет. Увидев в зеркале типа в грязной рубашке, с щетиной и в галстуке набекрень, он решил вымыться и побриться, но вдруг раздумал.
Тоня появилась, когда стройка смолкла и люди из фирмы тоже ушли. Он из гостиной следил за ней, стоявшей в проёме с сумочкой, в куртке, в джинсах на крепких ножках.
— Пётр Игнатьич…
— Тоня, — он вынул деньги. — Здесь сорок тысяч. А больше нет. Возьми.
— Не надо. — Она заплакала.
Он дал ей деньги и сказал:
— Я б и хотел встречаться, да не могу… Служить ты тоже у нас не будешь…
— Фёдор Иванович запретил?
— Все близкие мне люди гибнут.
— Бог мой, — шепнула Тоня. — Ваш друг тоже сказал сегодня, что с вами плохо. Дескать, скелеты у вас в шкафу.
— Скелеты?
— Я, Пётр Игнатьич, знала, что я вам — кто? Дура! А пришла, потому что услышала, что Фёдор Иванович в милицию заявил на вас.
— Поэтому и иди. Завтра и я исчезну.
— А праздник?
— Будет… ты приходи.
Он сделал воспрещающий жест, когда Тоня шагнула к нему, а потом услышал, как захлопнулась дверь.
Важно было не пропустить момент: в полной темноте он не смог бы действовать из-за страха. Поэтому он сидел, не сводя глаз с окон, в которых сгущался сумрак.
Клоун вот-вот мог появиться. Храбрость Девяткина куда-то улетучилась, он знал — вздумай он опять доставать клоуна — снова ничего не выйдет. Страх проникал от кончиков пальцев: в мизинец, затем в ладонь; скоро дрожь охватила тело. Он начал бегать и зажигать свет: в кухне, в ванной и в туалете, в спальне Кати и в гараже, в кладовке и в коридорах. Ламп было много — он включал все. В холле, кроме люстры, зажёг три бра. Снова сел, но дрожал теперь так, что пришлось надеть куртку. Подумал, что пропустил момент — слишком стемнело. Взбежал к спальне. Ещё миг назад он думал, что дело плёвое: взять тело и отнести, — теперь же, поворачивая ключ в замке, медлил. Только опасение, что ночью он вообще не решится выйти, вынудило его действовать. Медленно открывая дверь, он всматривался… Свет из холла достиг кровати и, наконец, штор. Девяткин включил свет.
Запах…
Естественно, труп лежит — дня три… четыре… а может, вечно?
Он, отворив шкаф, резко рванул к себе простыню, зная, что, если помедлить ещё, то он вовсе не решится. Пахло. Откинув край, он открыл бледное лицо с пятнами и закатившимися белками. Волосы были как всегда. Их жаль… Если б не Катя, он бы признался. Катя усугубляла несуществующую вину. Он знал, что к Лене в раздражении повернулся резче, чем следовало. Катя же… Катина смерть случилась лишь из-за шаткой галереи — результата экономии тестя… Волосы жаль. Как ногти, у трупа они ещё растут… Утешила мысль, что живы все относительно. В вечности все мертвы: Катя, и он, и следователь, и Сытин… Ей, может быть, повезло: Катя уже за гранью предсмертных мук.