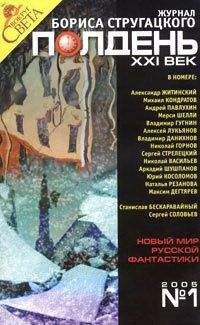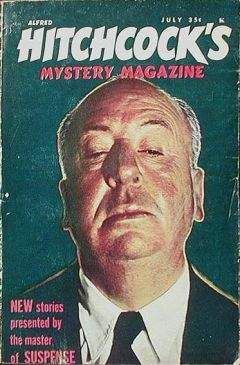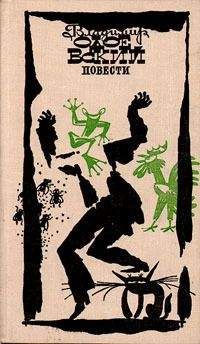Екатерина Лесина - Алмазы Джека Потрошителя
Мамаша моя другой работы не умела. К тридцати годам ее спина выгнулась, а руки сделались мосластыми. И я вот глядела на эти руки, а особенно на ладони, которые покрыты были красной кожей, а она еще и трескалась вечно, от воды, значит, и порошков. Я глядела и думала: неужто и со мной так станется?
Кроме меня, матушка родила шестерых. Трое, правда, померли, не то от голоду, не то от болячки. А которых осталось – матушка в работный дом определила. Ну а меня чегой-то оставила. Думаю, чтоб было кого пинать. Уж очень у нее характерец скверный выдался.
Вас-то небось и не пинали никогда.
Что, пинали? А и не скажешь. Вы не смотрите, что Кэтти болтает без умолку, это не оттого, что она работать не хочет, очень даже хочет. Вы – мужчина видный. Наши все мне завидовать станут. Только Кэтти ж видит, что вам это дело без надобности, у вас не в яйцах, в душе зудит.
Смеетеся… ну и смейтесь. Смех – он лечит.
Так вот, матушка меня шпыняла, попрекала каждым куском, не особо думая, что куски эти я самолично выискивала. Ну да, случалось и подворовывать, но больше милостынькой. Я-то смазливая лицом… правда, одноче местные меня крепко побили. Голову в кровищу разнесли. И шрамы остались. Хотите потрогать? Не бойтесь, блох я вычесываю. Вот, чуете, какие шрамы остались? А и за дело. Это ж порядку никакого не станет, если каждый будет делать чего ему хочется. Я-то по малости лет не понимала про порядок. А про голову так и сразу поняла.
Мамаша моя вот заругалась. Дескать, некогда ей со мной возюкаться. А еще и кровищей чего-то изгваздала… таки добавила. Ну я и порешила тогда, что от маменьки сбегу. Какой в ней толк? Только прибыток забирает… не успела. Только-только оправилась, как пришла она с человечком. Ну из таких, знаете, которые редко в наших местах появляются. Сюртук на нем, помню, был смешной, со здоровенными плечами. Я после узнала, что в них вату наталкивают, чтоб, значит, плечи повыше гляделись. Ну этот человек меня щупать принялся, глядеть по-всякому.
Чего не так, инспектор? У вас лицо такое сделалось… страшное.
Я разозлила? Нет? А… вы об таком не слыхали. Так ведь обычное ж дело. Купили меня. За пять фунтов. И еще потом на врача отдали, чтоб, значится, сделал так, чтоб моя физия зажила ровно. А мне, значится, счет выставили. Пока не отработаю – уйти нельзя. Двадцать пять фунтов.
Я как услышала про такие деньжищи, так и все…
Вы вот опять про еду забыли. Я теперь и понимаю, с чего вы такой тощий. Дети малые и те сами едят, а вас, значится, принуждать надо. Рассказывать не стану, пока тарелку пустую не увижу… вот. И не смейтесь надо мною. Я ж как лучше хо́чу.
Сколько мне лет было? Так не знаю. Шесть вроде. Или семь? Это вам в книгах церковных глянуть надо, ежели любопытственно. Я ж так думаю – сколько есть, все мое. Ну и так, инспектор, этот человечек, а как его звали – говорить не стану, потому как страшное все-таки у вас лицо, прям нелюдское, мне первого клиента и привел.
Вы прилягте, инспектор, а то ходите как тигра в клетке. Да, я тигру и видела! Привозили зверинца. Только они рыжие, прям как я, а вы – белый весь. Наши говорят, что вас в Индиях пытали. Правда? Нет? Вы лягте, а я рядом посижу. Тигры – они хорошие. Ну, то есть я знаю, что людей едят, а тот лежал смирнехонько и еще плакал. Мне так жалко его стало…
И вас тоже жалко. А себя? Так а чего жалеть? Живу вот. Как получается, так и живу. Утречком проснешься, бывает, к окошку подойдешь, глянешь – мамочки родные, солнышко вовсю светит. День улыбается. И радостно на душе. Или вот снег идет, блестит, что монетки серебряные… дождя вот не люблю. В дождь мысли всякие лезут в голову. А где это видано, чтоб пристойная девка думала много? Говорят, что от мыслей и голова треснуть могет… Глупости? Ну не знаю.
А про дальше, так уже и нечего особливо. Работать я стала. Сначала с тем человечком. А как подросла, он меня и другим передал. Долг я свой отработала… и денег сколько-то скопила. Вот думаю, что как-нибудь устану работать, так и уеду из Лондона. К морю хочу. Вы видели море, инспектор? Говорят, что оно страсть красивое… А еще домик прикупить бы. Какой? Обыкновенный. Как у людей. Стены там. Крыша. И дворик. Я бы цветов посадила. Страсть до чего люблю цветы… нет, розы – они для благородных. Мне б попроще чего. Петунии. Или вот такие, знаете, которые вьются по стенам. Не, не плющ, а с колокольчиками. Синими, белыми, розовыми… и дочку свою – а дочка у меня всенепременно родится – я бы не стала куском еды шпынять. И продавать не продала б, хоть бы все деньги мира принесли и сказали: бери, Кэтти.
На кой мне деньги, когда счастье есть?
Она осталась на ночь, пусть и не затем, зачем обычно остаются шлюхи. Кэтти быстро уснула. Во сне ее лицо было совсем уж детским, и Абберлин разглядывал его, запоминая черты.
Нос вздернутый. И пухлые губы. Над левой бровью крохотный шрамик, который стереть бы… а заодно и подонка, его оставившего.
Вокруг, оказывается, куда больше подонков, чем Абберлин думал.
Заснуть ему все-таки удалось. И на сей раз сон был удивительно спокоен.
Лондон. Ист-Энд, район Уайтчепел, 9 сентября 1888 г.
Тело Энни Чэпмен было обнаружено около 6 утра на заднем дворе дома 29 на Хэндбери-стрит в Спиталфилдс. Как и в случае с Николз, горло несчастной было перерезано двумя взмахами бритвы, брюшная полость – вскрыта полностью.
– Она умерла довольно давно, – сказал Джордж Багстер Филлипс, доктор, приглашенный полицией. – Тело успело остыть. Наблюдается частичное окоченение. Обратите внимание на форму разреза… вот эта часть, на зубец похожа, свидетельствует, что удара было два.
Он повернул голову Энни и раздвинул губы.
– Язык прикушен. Ее схватили за подбородок и запрокинули голову… полагаю, она такого не ждала. Она не мучилась.
Полицейский писарь старательно регистрировал каждое слово на бумаге. А доктор продолжал осмотр.
– Матка отсутствует. Влагалище частично удалено… и придатки тоже.
И слова его подхватили, понесли, передавая друг другу, разукрашивая яркими подробностями, которые к вечеру появятся на страницах газет.
Но полицию будут интересовать не слухи.
Прежде всего она обратит внимание на вещи, разложенные вокруг жертвы. У ног ее найдут карманную гребенку с мелкими зубьями и клок ткани, возле головы – конверт с надписью «Sussex regiment», штемплеванной 23 августа.
– Вещи не выглядят разбросанными, – озвучит всеобщее мнение инспектор Джозеф Чандлер. – Он разложил их. Уже потом, после убийства.
И доктор добавит, что, вероятно, бедная женщина умерла быстро и все дальнейшие манипуляции производились уже с мертвым телом.
– Поразительно. – Доктор позволил прикрыть тело, которое должны были переправить в больницу для дальнейшего, куда более подробного исследования.
– Что вам кажется поразительным? – не слишком-то любезно поинтересовался инспектор.
– Сила. И умение. Посмотрите… хотя нет, поверьте пока на слово. Это существо, которое назвать человеком у меня не повернется язык, сумело одним движением ножа рассечь толстые мышцы. И заметьте, кишки остались неповрежденными. О чем это говорит? О том, что оно определенно знакомо с подобного рода операциями.
Доктор обернулся, словно опасаясь быть подслушанным.
– Послушайте, инспектор. Даже мне с моим двадцатитрехлетним стажем работы понадобится не менее четверти часа, чтобы проделать подобную операцию. А оно управилось быстрее. Гораздо быстрее. И это означает одно: он – медик. Не аптекарь, не мясник, не таксидермист, а именно медик! Я бы сказал даже – практикующий хирург.
На месте, где лежало тело несчастной, чья личность устанавливалась, осталось пятно.
– И его инструмент… лезвие не менее восьми дюймов в длину. Узкое. И необычайно острое, но притом способное совершать весьма тонкие манипуляции. Я бы сказал, что среди инструментов для ампутации сыщется подобное.
– Благодарю вас. – Инспектор Джозеф Чандлер, человек, на которого в этом деле возлагались особые надежды, не спешил с выводами.
Это дело, Чандлер был уверен, не потребует особых сил и умений. Люди, обитающие в месте, подобном Уайтчепелу, бедны и скудоумны, ведь бедность не бывает иной. А следовательно, в том, что убийца до сих пор не пойман, виновата едино нерасторопность одного инспектора, которому давным-давно пора уйти в отставку.
Он и здесь был, пусть бы его не приглашали. Абберлин держался в стороне, внимательно наблюдая за действиями доктора, но не делая попыток подойти. Чандлеру пришлось сделать первый шаг: нельзя в присутствии низших чинов и посторонних людей демонстрировать столь явную неприязнь.