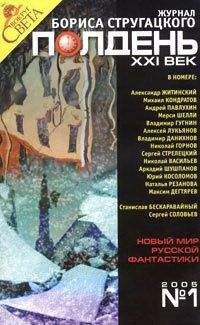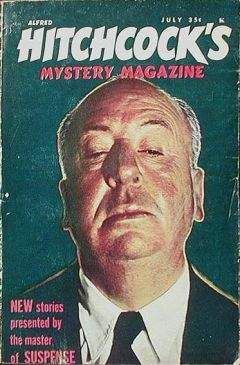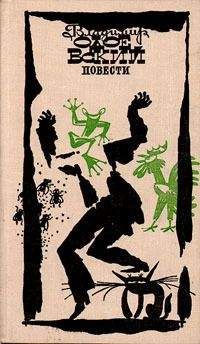Екатерина Лесина - Алмазы Джека Потрошителя
– Наглец!
Пощечина. И тут же извинение, не словом, но нежностью руки на колючей щеке. Надо остановиться. Неправильно все то, что происходит сейчас. Но опиумный аромат дурманит.
– Зачем ты пришла?
Еще не поздно. Окликнуть Уолтера. Выйти. Сбежать.
Хромой Абберлин вновь спасается бегством.
– Зачем ты пришла?
– За тобой.
Белые ровные зубы. Сухие губы с трещинкой на нижней. Вспухает капля крови, солоноватая на вкус. А от цепочки на шее след, который Абберлин пытается стереть.
– Уходи, – просит он, расстегивая платье.
Грохот собственного сердца заглушает ее ответ. Да и неважны слова… неважны… ничто не имеет значения здесь и сейчас.
Мэри все-таки уходит, но потом, позже, когда уже нельзя изменить случившегося. Абберлин лежит в постели, уткнувшись лицом в подушку.
– Надеюсь, мне не придется просить вас оставить это… приключение между нами?
– Нет.
На нее нельзя смотреть, но Абберлин смотрит. Худая женщина в сорочке возится с чулками. У нее не получается выровнять шов, и женщина злится.
– И моя предыдущая просьба остается в силе.
Она сама надевает платье, и юбки шелестят, как листва перед бурей. И Абберлин с тоской осознает, что сейчас Мэри уйдет.
– Останься, – слово дается с трудом. – Пожалуйста.
– Здесь? С тобой?
Не презрение – презрение он бы вынес – удивление. Действительно, как ему вообще пришло в голову, что Мэри Уильям, благовоспитанная леди, задержится здесь. Взгляни на свою комнату, Абберлин.
Дурные обои, которые давным-давно пора менять. Старая мебель, принадлежащая не тебе, а хозяину. Дрянное зеркало с мутным стеклом, где отражаешься ты сам. Джон говорил об истощении, и теперь ты видишь себя словно бы со стороны. Остов костей, обтянутый кожей, уродливый, как уродливо всякое чучело.
– Послушайте, – Мэри заслоняет зеркало, и ты благодарен ей за это нечаянное милосердие. Она ловко подбирает волосы, зачесывает вверх и закрепляет шпильками. – То, что произошло сейчас, не имеет ровным счетом никакого значения. Вы и я – мы слишком разные. И мне бы хотелось, чтобы вы всецело осознали эту разницу.
– Осознаю. У меня есть деньги.
– Деньги? – Она поворачивается к Абберлину. – Офицерская пенсия? Или ваше ничтожное жалованье, которого хватает лишь на…
Алмазы, подаренные смертью, спрятанные на дне сундука, где лежат ошметки прошлого Абберлина. Тот умел управляться с дамами, подобными Мэри.
Она же вздыхает, громко и неестественно. Присаживается у кровати и ледяной рукой касается волос.
– Сейчас вы очень милы, – Мэри переходит на шепот. – Но подыщите кого-нибудь, более подходящего вашему… положению. И оставьте наконец нас в покое.
После ее ухода Абберлин выбрался из постели и дохромал до окна. Рванул раму, но та уперлась, не желая открываться. Инспектор дергал запоры, тряс решетку, пока не выломал бронзовую крученую ручку и тогда, с нею, упал в кресло.
– Уолтер!
Грязное белье на грязном полу. И ощущение грязи в груди, в остатках души.
– Уолтер, сволочь ты… окно открой.
– Так не открывается, – меланхолично заметил Уолтер, подбирая разбросанную одежду. – Я ванну набрал. Идите, помокните. Полегчает. И выпить бы вам, инспектор.
Изначально едва-едва теплая, вода в ванне стремительно остывала. Кожа покрывалась мелкой сыпью, чесались ребра, ныло сердце.
– Хватит уже. Вылазьте, пока не околели, как та собака под мостом. После шлюх оно всегда мерзостно. Особенно когда шлюха приличной притворяется, – Уолтер вытащил инспектора и закрутил в махровое полотенце.
Как ребенка.
Абберлин и ведет себя как ребенок, который только и умеет, что скулить над собственными несчастьями.
– Моя сестрица-то все пилит, дескать, чего ты, Уолтер, не женишься? То одну подружку подсунет, то другую… – Уолтер растирал окоченевшее тело, сдавливал мышцы до боли, до скрипа внутри. Когда же отпускал, то прилив крови нес тепло. Абберлина отпускало.
– А я ж по глазам вижу – шлюха. Ну и что с того, что на улице собой не торгует? Те, которые торгуют, честней небось. Они-то не прячутся. А этая вырядилась фифа фифой…
«…найдите кого-нибудь, кто соответствует вашему положению, инспектор…»
– …разве ж приличные бабы такое творят? А из-за шлюх в страдания ударяться – последнее дело, – бухтел Уолтер. – Одна сгинула, другая явится.
– Одна… другая… – Мысль, возникшая в голове Абберлина, была неожиданна. Пожалуй, в другое время он отверг бы ее со стыдливым негодованием, но мысль выбрала удачный момент. – Уолтер, а приведи-ка девку… на Бак-Роуд стоит. Рыжая такая. Новенькая. Кэтти звать. Кэтти Кейн. Найдешь?
Нашел. Правда, на поиски ушло больше часа, и за это время инспектор не единожды успел раскаяться в опрометчивом своем решении. Но, взглянув на огненно-рыжую Кэтти, передумал отсылать.
В руках девица держала корзинку.
– Я подумал, что вам поесть бы надо, инспектор. И нормально, – Уолтер подмигнул рыжей. – А я пойду… сестрицу проведаю. А то ж этот ее… буйный очень. Надо бы укороту дать. Пускай и ирландец, но руки нехай при себе держит.
Он убрался прежде, чем Абберлин успел сообразить, в какое глупое положение попал, пусть и по собственной вине. Девушка стояла посреди комнаты, оглядываясь и не пытаясь скрыть интерес к тому, что видит. Ее взгляд скользил по вещам, изредка касаясь и самого Абберлина, но не задерживаясь слишком уж долго. Сам он тоже стеснялся – смешно сказать – глазеть на гостью.
– Тебе заплатили? – Это был неправильный вопрос, и Кэтти не стала отвечать, лишь пожала плечами: мол, думайте как хотите.
– Наверное, ты голодна? Присаживайся.
– Ой, инспектор, да успокойтеся вы. Подумаешь, великое дело – девку привели. Многие вон водят, и ничего. – Если бы это было сказано иным тоном, не столь дружелюбным, насмешливым, Абберлин выставил бы девицу вон.
Она же тряхнула рыжей гривой и, подойдя к столику, поставила корзину.
– Проголодалась я… сами-то когда последним разом ели? Небось и не помните.
Она ловко подобрала волосы, скрутила жгут и завернула его вокруг головы. Удерживая левой рукой прическу, столь небрежную, что и прической ее назвать было сложно, Кэтти выдергивала из лифа шпильки и одна за другой вонзала в волосы. Абберлин испугался, что сейчас она голову проткнет.
– На вас-то и глядеть больно. Такой хороший человек, и такой замученный.
Из корзины появилась салфетка, несколько глиняных горшочков, от которых исходили чудесные мясные ароматы, кусок окорока, завернутый в холстину. Сыр. Хлеб. Темная бутыль вина.
– Вы б хоть чего сказали, а? А то молчите, прям жуть становится. Садитесь. Ешьте. Мне велено, чтоб вас накормить, а Кэтти всегда делает чего велено.
Ей лет восемнадцать, а может, и того меньше. Улица быстро старит. И хорош будет Абберлин, если воспользуется тем положением, в которое попала эта девочка, изо всех сил старающаяся выглядеть взрослой. Она скрывала молодость под толстым слоем пудры, стесняясь не столько ее, сколько веснушек, усыпавших кожу столь густо, что та казалась рыжей.
Абберлин с трудом преодолел желание коснуться крапчатого плеча. Вместо этого инспектор сел за стол, и Кэтти, подвинув к нему миску с мясной похлебкой, велела:
– Ешьте.
– Ты тоже. Садись. Ешь. Я не привык один, – глупое оправдание, и ложь слишком явна, чтобы ее не заметить. Но Кэтти не замечает. Она усаживается напротив и подпирает щеку кулаком.
– Расскажи о себе, – просит Абберлин.
История Кэтти Шелдон, рассказанная ею по случаю
Моя мать была прачкой, инспектор. Вы, наверное, знаете, что быть прачкой нелегко. Стираешь, стираешь… целыми днями только и дел – тереть лен, шерсть, хлопок, давить, отбивать, выбеливать. И чтобы ни пятнышка не осталось! А останется – не заплатят, еще и денег за порчу потребуют.
Неблагодарная это работенка, я вам так скажу.
Вы ешьте, ешьте. Думайте, что Кэтти вам сказку говорит.
Мамаша моя другой работы не умела. К тридцати годам ее спина выгнулась, а руки сделались мосластыми. И я вот глядела на эти руки, а особенно на ладони, которые покрыты были красной кожей, а она еще и трескалась вечно, от воды, значит, и порошков. Я глядела и думала: неужто и со мной так станется?