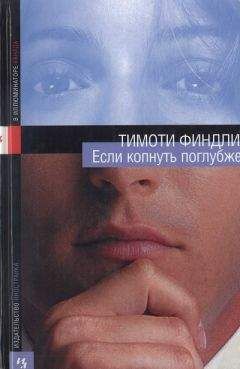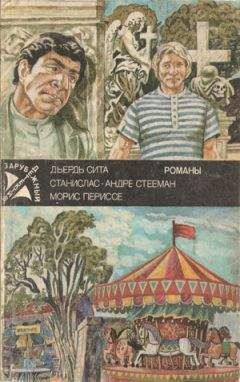Тимоти Уилльямз - Черный август
– Почему Розанна так и не вышла замуж?
На лице старика появилась мягкая улыбка.
– Она умная женщина, а в свое время была еще и замечательной красавицей. И всегда любила детей.
– Вы не досидели до конца вскрытия, комиссар?
– Почему вы не отвечаете на мой вопрос?
– Почему Розанна не вышла замуж? – Банкир засмеялся и поднял вверх свою бледную руку. – Обещаю, я отвечу на ваш вопрос. Но человек я весьма методичный. Как старая прислуга. – Он помолчал и, оглядевшись вокруг, спросил:
– Этот чудесный запах – это магнолия?
Тротти кивнул.
– Поздновато для магнолий, не так ли?
– Увядание.
– Что?
– Цветы магнолий способны увядать прямо на дереве, не опадая, – при соответствующих условиях.
– Увядание, – с удовольствием повторил старик. – Вы образованный человек, комиссар.
– Я невежественный полицейский, – сказал Тротти. – Невежественный, но не тупой.
Влюбленные поднялись со своего места и, держась за руки, направились к площади Леонардо да Винчи и средневековым башням в лесах.
– Хотя не исключено, что это пахнет духами девушки, – заметил Тротти.
Старик с улыбкой смотрел, как молодые люди покидают двор.
– Конечно же, я расскажу вам о Розанне, комиссар Тротти. Отчасти для этого-то я и хотел с вами встретиться. Но в своей старомодной манере, в манере отставного служаки.
Он снова замолчал.
– Мой брат был старше меня на двадцать один год – мать родила Джованни в девятнадцать лет. Она была очень красивой девушкой. Сначала она работала служанкой в семье моего отца в Монце. Беллони были богачами – они торговали ножами, и поэтому брак с моим отцом был для нее настоящей удачей. – Беллони грустно улыбнулся. – Будь Джованни сейчас жив, ему было бы сто. Точнее, девяносто пять лет. А как будто только вчера все было.
Тротти не двигался. Он сидел, облокотившись на колени и свесив руки между ног.
– После Джованни у моей матери родились еще несколько детей, но все они умерли или при рождении, или в первые же месяцы жизни. Тогда женских консультаций не было. Я думаю, врачи и мне прочили близкую смерть. Было это в 1916 году. Сдается, я их разочаровал. Как видите, – для вящей убедительности синьор Беллони похлопал себя ладонью по бедру, – как видите, я пока что на тот свет не собираюсь.
– Ваш брат был отцом Розанны?
Синьор Беллони нахмурился. Облокотясь о прохладный камень скамьи, он возобновил повествование.
– Джованни женился в двадцать шесть лет. Тоже на девушке из богатой семьи. Из богатой семьи, которая переживала трудные времена. В мировую войну, когда куча людей наживала целые состояния, – состояния, которыми их потомки пользуются и поныне, – что, по-вашему, случилось с богатством семейства Аньелли из Турина? Для всех этих промышленников-северян война была манной небесной, а семейство моей невестки потеряло в это время значительную часть собственности, многое было разбомблено австрийцами в Удине. Поэтому брак явился прекрасным выходом из положения… во всяком случае, для моей невестки. Хотя никому и в голову не приходило тогда называть семейство Беллони из Монцы нуворишами, их деньги были все-таки голубее их крови. Моя же невестка была настоящей аристократкой – и даже больше того. Она воспитывалась в четырех стенах. До тех пор пока семья могла платить за ее обучение, у нее всегда были только частные репетиторы. Ни готовить, ни шить она не умела. И тем не менее Габриэлла обладала в глазах Джованни одним неоценимым достоинством. – Старик замолчал.
– Каким же?
– Она боготворила землю, по которой ступал мой брат, – сказал Беллони и засмеялся. – Бог ее знает, почему. Боюсь, братец Джованни был особой не слишком приятной. На войне он не был: жизнью мужа и первенца мать рисковать не хотела. Но в 1919 году он свалился с гриппом – ничего серьезного, но многим показалось, что, оправившись от болезни, он резко изменился. – Беллони постучал пальцем по виску. – Грипп не прошел для него бесследно. – Он снова помолчал. – Габриэлла была глупенькой. Вообще забавно, как вся история повторилась еще раз. Мой отец женился на очень молодой девушке – точно так же братец Джованни женился на Габриэлле, когда той и девятнадцати не было. Но между Габриэллой и моей матерью была огромная разница. Моя мать была женщиной сильной. Она вышла из крестьян и считала, что жизнь жестока. Она искренне думала, что внушать нам, детям, мысль, что в будущем мы сможем рассчитывать на какую-то помощь от посторонних, – значит, совершать страшную ошибку. Сильная женщина. Любовь для нее была слишком большой роскошью. В сущности, человеком она была добрым, но я не припомню случая, чтобы она поцеловала меня с материнской нежностью. Она целовала нас, но теплоты в этих поцелуях не было. Не потому, что она была холодной, но… – Он пожал плечами. – Сейчас мне кажется, что, по ее убеждениям, она должна была себя сдерживать. А с другой стороны, не умей она подавлять свои истинные чувства, смогла бы она примириться с той жуткой чередой выкидышей и мертворождений? – В сгущающихся сумерках Тротти разглядел обращенные на него блеклые глаза. – Ваши нынешние психологи не преминули бы заявить, что мое прусское воспитание непременно должно было бы завершиться гомосексуализмом.
Аромат магнолий, казалось, стал еще сильнее.
– Возможно, этой нехваткой любви и объяснялись поступки моего брата. Он был старше меня, и ему пришлось туже. Ко времени моего рождения мать, несомненно, немного смягчилась. А может, ее просто удивило то, что наконец-то хоть один ребенок не явился на свет мертвым и его не надо заворачивать в саван. – Он снова взглянул на Тротти. – Сколь тяжела может быть женская доля – и сравнивать с нашей нельзя. – С минуту он молчал, как бы ожидая, что скажет Тротти. – Примерно в то время, когда у Джованни родился первый ребенок…
– Розанна? – спросил Тротти.
– Примерно в то время, когда родилась Розанна, – где-то, должно быть, в 1930 году, – отец умер, и все дела нашего семейства прибрал к рукам Джованни. У нашего отца времени на фашистов или на Муссолини никогда не хватало. Мне кажется, что в глубине души отец был поэтом. Поэтом и мечтателем. Дела он вел неплохо, но без особого энтузиазма. Очень любил стихи. Я помню, как он запирался в библиотеке, и мне и близко не разрешалось подходить к ее старой дубовой двери. До сих пор помню запах отцовской библиотеки. Он любил Данте и немцев – Шиллера и Гете. Отец ненавидел войну, всегда говорил, что был против итальянской интервенции в 1915 году. Но я его почти не знал: в те дни в буржуазных семьях – не в пример другим сословиям – близкие отношения между родителями и детьми были не приняты. Я нежно его любил – но издалека. И вот он отправляется на войну, оставляя жену, двух сыновей и фабрику. Идти он не хотел, он ненавидел сторонников интервенции, ненавидел Д'Аннунцио, ненавидел ирредентистов. Ему было тогда за сорок, но он считал это своим долгом. Перед страной и своим сословием. Он пошел в альпийские стрелки и в Тренто окончательно подорвал свое здоровье. Он воевал на передовых, а мороз там свирепствовал не хуже австрийцев. Помню, как он вернулся домой. Мне тогда было три года. Такой красивый в своей лейтенантской форме. Взял меня на руки…
Тротти ждал.
– Когда отец умер, я был еще мальчишкой. Хотя уже тогда твердо знал, что торговать ножами не хочу. На то был Джованни, а у него – как и у большинства жителей Брианцы – деловых качеств хватало. Бизнес у нас в крови. В Италии нас, жителей Брианцы, принято считать жадными. Я не думаю, что мы жадные. Просто мы умеем заключать выгодные для себя сделки. Беллони поставляли армии Муссолини сабли, ножи и штыки и справлялись с этим неплохо. Тогда-то Джованни и стал фашистом. По убеждению ли или же из соображений собственной выгоды – не знаю до сих пор. Хотя, думаю, скорее всего – из желания завоевать публичное признание.
С Новой улицы время от времени доносились звуки проезжающих машин – автобусов, такси, приглушенный вой какойнибудь «веспы».
– Да, все правильно, – сказал синьор Беллони, загибая пальцы. – Розанна родилась в 1930 году, а Мария-Кристина – в 1941. – Он о чем-то задумался, покусывая кончик языка. – Думаю, что сначала мой братец примкнул в фашистам, потому что захотел власти и публичного признания. На самом-то деле и на то и на другое ему было плевать. Но ему нравилось позировать. Он любил фашистскую форму: китель и черная рубашка скрывали его брюхо. И, наверное, он получал удовольствие от того внимания, которым его одаривали все женщины. Фашист ли, нет, но он сделал все возможное, чтобы меня не демобилизовали. Я был призывником 1916 года и без него загремел бы в Испанию или в Грецию. А может быть, и в Россию. – Он помолчал и прибавил: – В России у меня погибло много друзей. А иногда я думаю, окажись я среди них, все было бы гораздо проще.