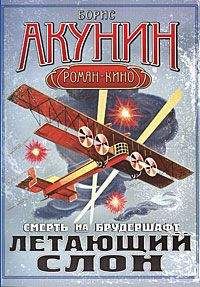Татьяна Устинова - Первое правило королевы
— Кать, — тихо произнесла Инна. Ей было очень жалко ее, почти до слез, и она знала, что ничем не сможет ей помочь — никто не сможет. — Кать, вам придется… это как-то принять, не знаю. Конечно, сейчас будет много грязи, и ваши родители…
— Мои родители были самыми лучшими на свете, — отчеканила Катя. — Вам ясно?
Джина спрыгнула с ее колен, отошла и оглянулась с неудовольствием.
— Ваш отец оставил мне бумаги, — сказала Инна ровным голосом. — Я их не получила. Мне обязательно нужно выяснить, что это за бумаги и почему он оставил их именно мне. Вы должны помочь мне, Катя.
— Бумаги, — пробормотала губернаторская дочь, — ну да, бумаги. Мама говорила про бумаги. Мама вчера хотела их вам отдать. Помните, на… поминках, когда я к вам подошла?
Инне было уже все равно, слышит Глеб или нет. Она никогда ничего не боялась и сейчас не станет бояться.
— Они были у вас на даче?
— Не знаю.
— Любовь Ивановна на встречу со мной поехала прямо с дачи?
— Нет. Мы вернулись в город. Там остались убираться, а мы вернулись на городскую квартиру. Мы Митьку хотели дождаться, а потом поняли, что не дождемся.
— Он был… сильно пьян?
Катя скривилась:
— Как обычно. И мама не поехала. Пешком пошла. Водитель куда-то подевался, сразу после кладбища. Мама сказала, что так теперь будет всегда, потому что никому мы не нужны.
Это точно, подумала Инна. Никому вы теперь не нужны.
— А бумаг этих я не видела.
— Инна Васильевна, — осторожно спросил Глеб Звоницкий, — о чем вы говорите? Какие бумаги?
— Я сама не знаю, — призналась Инна. — И больше ваша мама точно не говорила ни про преступление, ни про наказание, да?
Катя покачала головой и с досадой заправила за ухо выбившуюся прядь.
— Она сказала, что мы и так достаточно наказаны. Я думаю, это она про Митьку. И еще спросила, помню ли я Машу Мурзину. Я сказала, что помню.
— Кто такая Маша Мурзина?
— Она утопилась, — объяснила Катя. — Давно, лет двадцать назад. Папа сердился, что отец Василий велел ее за оградой похоронить, знаете, как самоубийц хоронят.
У Инны что-то похолодело в голове, под самыми волосами.
Господи, какие странные, немыслимые петли. Двадцать лет назад Мухин сердился, что самоубийцу Машу похоронили за оградой. Вчера похоронили его самого — в ограде, все как полагается и даже «с почестями», — но тоже «как самоубийцу».
Инна налила в чайник воды из канистры. Это была особая вода, Осип ездил за ней далеко. Из Енисея вырезали кусок, белый ледяной кубик, заворачивали в брезент и привозили в город. Инне казалось, что это самая лучшая вода на свете, куда там «Эвиану» с «Виттелем»!
— Катя, а почему Любовь Ивановна вспомнила про… Машу? Вы не знаете?
Катя покачала головой — нет, не знает.
— Ну, хоть о чем вы говорили в тот момент?
Катя еще немного подумала.
— О том, что бог троицу любит, и о том, что наказаны все трое. А вот теперь и отец.
— Кто — трое? Какие трое?
Катя покачала головой.
— А от меня муж ушел, — сказала она внезапно. — Давно, еще летом. Мама меня утешала, говорила, что он побегает и вернется. Но он не вернется, я знаю. У него теперь Илона, художница. Ей надо рисовать, а Генке нужна моя квартира. Для Илоны.
Инна всегда соображала очень быстро.
— Квартира принадлежит вашему отцу?
— Ну, конечно. А теперь мне.
— Вам, — повторила Инна.
Пришел Тоник, сел рядом с Джиной и зевнул во всю пасть. Глеб Звоницкий посмотрел на Инну.
— А это мальчик или девочка? — спросила Катя про Тоника.
— Это он. Тоник.
— А куда вы деваете котят?
— У них не бывает котят. Мне пришлось сделать им операции. — Инна словно оправдывалась. — Я везде вожу их с собой, с котятами я бы не справилась.
— Жать, — сказала Катя. — Я бы взяла котенка.
— Ваш муж был на похоронах?
— Нет, он только сегодня прилетел. Наверное, узнал, что мама умерла.
Инна достала с полки три кружки — из одной недавно пил Ястребов Александр Петрович — и поставила на стол. Потом подумала и переставила: ту, из которой он пил, взяла себе.
— Во сколько московский рейс прибывает? — спросила она у Глеба.
— Московский — вечером. А… ваш муж разве из Москвы летел?
— Не-ет, — удивилась Катя, — из Питера.
— Питерский прилетает часов в одиннадцать с копейками. Сообщили о смерти часа в три дня. Он не мог знать, что… умерла ваша мама. Он в это время летел, — сказал Глеб.
Катя пожала плечами:
— Может быть, и не знал.
— Значит, на похороны отца он не прилетел, а на следующий день прилетел, — подытожила Инна. — И он хочет получить вашу квартиру. А как его зовут?
— Генка.
— А фамилия?
— Зосимов. Я тоже Зосимова, а не Мухина.
Она помешала ложкой чай, подула на него и сказала решительно:
— Я домой все равно не пойду. Мне бы только с Митькой повидаться, а потом я уеду. Может, и его уговорю. Или… нет?
— Что?
— Уехать. Нашли бы ему в Питере работу. Мама все мечтала.
Инна очень Кате сочувствовала, и это сочувствие размягчало, разъедало ее решимость. Приходилось снова восстанавливать ее, вылепливать, как из мягкого пластилина, а это неправильно, ибо решимость должна быть твердой, железной, непреклонной, чтобы на нее можно было опираться, ею размахивать, как боевой секирой, чтобы только воздух посвистывал вокруг.
— Ах нет! — вдруг сказала Катя тоном что-то внезапно вспомнившего человека. — Я никак не могу уехать. И Митя не может уехать. Нам нужно маму похоронить. Мама умерла.
Лицо у нее вдруг стало сосредоточенным, даже ожесточенным, а потом набухло, как грозовая туча. Губы повело в сторону, и в глазах отразилась вся тоска, которая только есть на свете.
Катя взяла себя за щеки, наклонилась вперед и отчаянно зарыдала как-то очень по-детски. В детстве кажется, что слезы — это некий волшебный эликсир, вот поплачешь, и все пройдет, просто так пройдет, от слез.
Глеб Звоницкий сердито посмотрел на Инну. Ему жаль было Катю и очень хотелось ей помочь, и его сердило, что помочь ей он ничем не может.
Инна покачала головой.
Никто не может помочь.
Катя долго рыдала, а потом начала всхлипывать и подвывать, судорожно и коротко дыша.
Инна вылила в стаканчик полпузырька валокордина, почти силой заставила ее выпить и отвела на диван в кабинет.
Больше она ничего не могла сделать для губернаторской дочери — только уложить, накрыть, устроить, погасить свет.
Пришла Джина, села в дверях.
— Вот такие дела, — негромко сказала ей Инна. — Какие-то ужасные дела.
Джина согласилась. Дела и с ее точки зрения были ужасны. Весь вечер в доме чужие люди, никакого покоя, уединения и неторопливого общения. Кроме того, Джина не любила сильных эмоций, потому что, подобно рыцарю Джедаю, чувствовала колебание «великой силы». Эмоции должны быть в равновесии, или они выйдут из-под контроля, и «великая сила» захлестнет того, кто вызвал ее колебание. Странно, что люди этого не чувствуют.
Джина осторожно и грациозно забралась на диван, где мертвым сном спала под двумя одеялами измученная губернаторская дочь, осмотрелась, где бы лечь, и устроилась у нее в ногах.
Инна вышла и тихонько прикрыла за собой дверь.
Глеб Звоницкий на кухне пил кофе. Коричневая и золотистая банка стояла перед ним на столе, а из банки торчала большая ложка, как в казарме.
— Что-то ничего не понял я, — мрачно сказал он, едва Инна вошла. — Или она не в себе? Умом тронулась?
— У нее беда. Я бы тоже от такой беды тронулась.
Глеб посмотрел на нее с сомнением, словно не верил, что Инна может «тронуться».
— Инна Васильевна, вы простите меня, что я ее к вам… Некуда больше было. Ну, не повезу же я ее к… Марату или Коляну! Ну, и она про вас сказала сразу, что мать, мол, хотела вас видеть.
— Все нормально. — Инна уселась за стол и обхватила руками кружку. Чай почти совсем остыл, а вылить в раковину кусок Енисея Инне было жалко.
— Так откуда романы Достоевского, троица и всякое такое? Что она придумывает?
— Не знаю, — задумчиво ответила Инна, — не знаю, Глеб. Похоже, что Любовь Ивановна что-то такое знала или подозревала…
— Что?
— Из-за чего застрелился ее муж.
— Да теперь хрен кто узнает! — вдруг ожесточенно выговорил Глеб и даже ладонью по столу хлопнул тихонько, как будто точку поставил — на самом деле никто не узнает.
— Почему?
— Потому что все в обстановке строгой секретности. Даже нас близко не пустили никого!.. На месте происшествия никто не был, а теперь говорят…
— Вас — это кого? — перебила Инна.
— Нас — это ФСБ, Инна Васильевна, — объяснил он с некоторой язвительностью в голосе. — Кто там чего расследовал, какие кто улики собрал, кто вывод сделал, что он сам в себя стрельнул, — ничего не понятно. Вызвали генерала на совещание и все ему там объяснили. Ну, генерал, стало быть, понял и нам тоже объяснил, а там… кто знает.