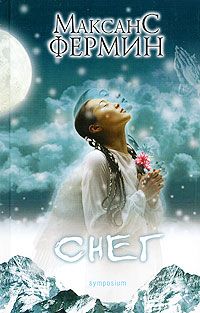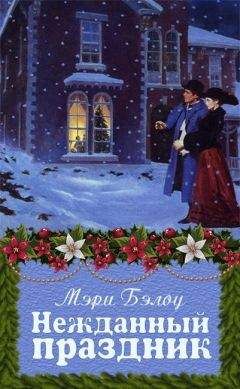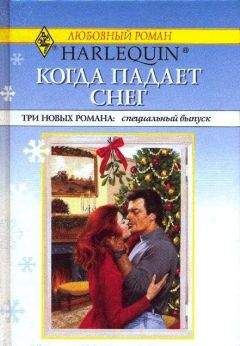Олег Рой - Капкан супружеской свободы
– Но-но, не баловать тут у меня. Женщину и ребенка – в штаб. Там разберутся. А этого… ну, с этим сами знаете, что делать.
И возникший сзади «кто-то» сильно потянул Анну за рукав, потащил ее прочь, и она успела лишь поймать на ходу маленькую, холодную, трепещущую, словно умирающая рыбка, ладошку дочери. Он шла, спотыкаясь, и все оглядывалась назад, где Петра Волошина уже поставили на колени в снег и кто-то громовым голосом, отозвавшимся прямо в ее сердце, крикнул: «Ну, давай, ваше благородие… Проси прощения у православных. Или, может, молитву перед смертью прочитать хочешь?»
Она не слышала, ответил ли что-нибудь Петр, но встала, как вкопанная, не в силах отвести глаз от происходящего, и успела уловить его последний, брошенный в их сторону украдкой взгляд. В нем были и сожаление, и нежность, и предсмертная тоска, и безмолвная попытка попросить прощения за то, что он больше ничего уже не сможет для них сделать. Не было только одного: страха смерти. Не было, как ни странно, и желания выжить, надежды на будущее… И, едва успев осознать это, Анна почти сразу же услышала, как грянули выстрелы, и увидела, как забилось в размокшей снежной грязи тело ее мужа.
– Я не помню, что было в штабе, – медленно и тихо говорила она. – О чем-то спрашивали, что-то обещали… Потом мы опять провели ночь в подвале. А сегодня за нами пришел тот солдат, который собирался нас как-то «использовать». Не знаю, куда он вел нас. И если б не ты… Спасибо тебе, Наташа.
Голос ее снова задрожал, точно от долго сдерживаемых рыданий, хотя в глазах подруги я не увидела ни слезинки. И, молча обняв ее, привлекая к себе, я, кажется, первый раз за прошедшие месяцы возблагодарила Бога за то, что я – жена «самого товарища Родионова» и что этот громкий по нынешним временам титул дает мне возможность и право спасать, хранить и миловать.
9 декабря.
Сегодня ночью я проснулась от приглушенных, тягучих, невнятных стонов. Анна сидела на постели, раскачиваясь из стороны в сторону, и повторяла одну и ту же фразу – монотонно, печально, бессмысленно… Сначала мне показалось, что она зовет мужа, жалуется ему на что-то, просит прощения, но потом я разобрала: «Господи, что же это? Что вы наделали? Что вы сделали с нами? Зачем, за что?..» Она повторяла это снова и снова, и вновь и вновь раскачивалась в такт движениям поезда; глаза ее были закрыты, а слезы, стекавшие из-под век, – медлительны и беззвучны. Я хотела окликнуть Анну, утешить ее, обнять – но что, что я могла сказать ей?!
Вчера после того, как она выплакалась и выговорилась передо мной, мы долго сидели с ней рядом, глядя на спящих девочек и переговариваясь короткими обрывочными фразами. Потом пришел Николай и замер в дверях, увидев неожиданно знакомое, совсем не нужное на его пути измученное лицо. «Аня? Аня Лопухина… А ты-то как здесь?» – этот его вопрос был задан хмуро, неласково и, похоже, скорее для порядка, нежели для того, чтобы получить серьезный ответ: ведь Родионов не хуже меня знал все подробности нехитрой биографии девочки, с которой встречался когда-то в нашей общей студенческой компании, пил чай, играл в фанты на моих именинах… И действительно, ответа не последовало, Анна только бросила на него испуганный, умоляющий взгляд и снова повернулась к дочери. Рука ее, лежавшая на голове спящей малышки, задрожала мелко-мелко, как и губы, и все ее тело.
– Все ясно, – вздохнул Николай. – Ладно, отдыхай, набирайся сил. А ты, Наташа, поди-ка сюда.
Я послушно поднялась с места, и муж отвел меня в дальний конец вагона, чтобы совсем исчезнуть из поля зрения Анны, чтобы быть уверенным, что она не только не услышит нашего разговора, но и не разглядит нашей мимики.
– Откуда она взялась? Где ее муж? – спросил он, кинув на меня недобрый, подозрительный взгляд.
– Расстрелян, – коротко ответила я, не вдаваясь в подробности.
– Ты уверена в этом?
Я вздохнула и кивнула головой. К сожалению, в том, что человек видел своими глазами, сомневаться не приходится. А Анне я верила, как самой себе.
– Смотри же, Наташа, не ври мне. В таком деле нельзя врать, можешь повредить и мне, и себе, и самой Анечке… Черт, и что же нам с ней теперь делать?
– А что, есть варианты? – сдерживая гнев, горячо заговорила я. Я вдруг испугалась, что он прикажет ссадить Анну с поезда, который уже набирал ход после долгой, в целый день, стоянки. – Неужели ты способен на такую подлость, Родионов?!
Он посмотрел на меня со странным любопытством. Потом кивнул головой и сказал:
– Да, я понимаю, ты давно уже считаешь меня способным на все. Даже на то, чтобы бросить на произвол судьбы, отдать под скорый и неправедный суд близкого тебе человека. Не так ли, Наташа?
На мгновение мне сделалось стыдно – ведь это же мой муж, мой Николай! Разве вправе я подозревать его во всех смертных грехах?! Но затем я быстро отбросила в сторону ненужную сейчас сентиментальность. Речь шла о моей лучшей подруге, о ее собственной жизни и жизни ее крохотной дочери. А потому я обязана была как можно быстрее расставить все точки над «i».
– Ты хоть понимаешь, что у нее никого нет, кроме нас? Кто ей теперь поможет, если не мы?
– Ну, положим, отец-то у нее остался, – задумчиво протянул Родионов. – А кстати, об отце: я слышал, что старик Лопухин сделал чуть ли не блестящую и весьма неожиданную революционную карьеру, лечит больших людей в нашей партии… Что ни говори, а хорошие врачи нужны всегда и при всех режимах. Ну-ка, пойдем, поговорим с ней.
Мы вернулись к Анне, и, подсев к ней поближе, муж произнес уже более приветливым, потеплевшим тоном:
– Ничего не бойся, теперь все самое страшное уже позади. Вернешься с нами в Москву, встретишься с отцом и забудешь все, что было, как страшный сон… Ты ведь знаешь, где он сейчас служит?
– Я слышала, что по-прежнему в больнице, в Москве. Ему удалось вылечить кого-то из ваших комиссаров, и он писал в N-ск, что у него все складывается хорошо и мы не должны за него волноваться… Может быть, он просто успокаивал меня?
– Нет-нет, – покачал головой Николай, – по моим сведениям, это все чистая правда. Ну и прекрасно. Если кто будет интересоваться твоим появлением у нас, – скажешь, что так и было запланировано, что тебя с дочерью должны были переправить нашим поездом с неспокойного юга в Москву, к отцу, работающему на большевиков. В детали не вдавайся, они необязательны. И утри, ради бога, слезы, – в его голосе появилось хорошо знакомое мне раздражение, и Анна, почувствовав это, так же быстро, как и я, испуганно вскинула на него голову. А Николай веско и жестко продолжал: – Не вздумай строить из себя безутешную вдову, поняла? Никто не должен знать о твоей связи с расстрелянным недавно деникинцем. Никто не должен подозревать в тебе жену белого офицера. Иначе это может плохо кончиться для всех нас.
Слезы вновь закапали из ее глаз; она кивнула, молча глотая их, и Николай поднялся и вышел из купе, бросив напоследок на меня предостерегающий взгляд. Шуршание его мрачной кожанки почему-то отдалось в моих ушах громом, у меня вдруг закружилась голова, и удаляющаяся темная фигура показалась мне странной, трагической тенью от гигантского воронова крыла…
Тогда-то Анна, глядя моему мужу вслед, и произнесла ту самую фразу, которую я потом услышала от нее ночью, в полусне-полубреду, под дробный стук колес поезда:
– Господи, Наташа, что же это? Что вы наделали, что сделали с нами? Зачем, за что?!
Кругом были боль и разруха, обман и нищета, густо перемешанные с лучшими упованиями, благородными помыслами и несбывшимися надеждами, и поезд мчался сквозь потерявшую разум страну, как летучий голландец по бурному, вздыбленному, утратившему привычный ритм существования житейскому морю. Но, сидя перед подругой, которую спасал теперь мой муж, чьи соратники только что расстреляли ее собственного мужа, – сидя перед Анной и глядя ей прямо в лицо, я ничего не могла ответить ей. Ничего, кроме одного:
– Все будет хорошо, родная. Теперь все будет хорошо. Мы отвезем тебя к отцу, вы будете жить вместе; ты сможешь дать Олечке хорошее образование. У нее будет настоящая семья – мать и дед, два поколения, которые станут любить ее. У моей Аси ничего этого не будет. Только родители, и – никого, никого позади их. Никого, кто мог бы рассказать ей о фамилии Соколовских, которую она будет носить, о том, как была девочкой я сама, и о наших милых, старых, вечных Сокольниках…
– Ты что-нибудь знаешь о Кирилле Владимировиче и Елене Станиславовне? – жадно глядя мне в лицо, перебила Аня. – У тебя есть о них хоть какие-нибудь сведения? Если б ты знала, как часто я вспоминаю ваш дом, ваши чудесные вечера и звуки рояля в гостиной!.. Это было такое счастье, Наташа! Настоящее, чистое, ничем не замутненное счастье…
– Ничего не знаю, ничего не слышала, – ровным голосом ответила я. Эта ровность давалась мне с большим трудом, но я не хотела сейчас выдавать своих чувств. – Ты ведь знаешь, мы давно расстались с ними: они не приняли Николая, а я не смогла принять их снобизма, их дешевого презрения к революции.