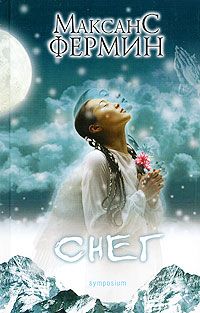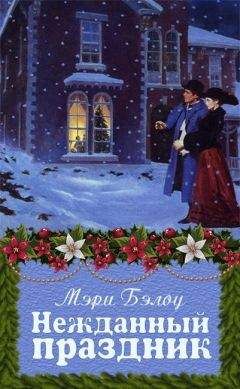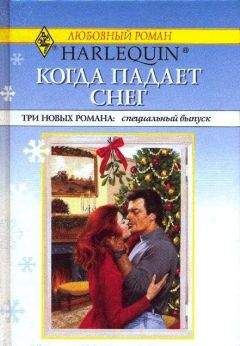Олег Рой - Капкан супружеской свободы
Жена боялась нарушить это молчание и ни за что на свете не промолвила бы ни слова, если б перед самым рассветом небритый, полуодетый, страшный, но смертельно родной человек не озарил ее странным и радостным голубоватым светом вдруг поднятых, ласкающих взглядом глаз.
– Ничего не поделаешь, родная, – сказал он так, будто отвечал на только что отпущенную ею реплику. Словно и не было многочасового молчания, словно вели они тихую и неспешную беседу в ее старой гостиной, у камина, под немолчный бой старинных часов. Били, разумеется, не часы, – била канонада, но Анне Волошиной так хотелось вернуть прошлое, что она готова была забыть обо всем и только слушать его голос и смотреть, смотреть, смотреть на него… – Ничего не поделаешь, так уж сложилось. Теперь послушай меня…
И дальше Петр стал говорить страшное. Что бы ни случилось, внушал он ей твердым и холодноватым тоном, что бы ни произошло со мной на твоих глазах, – ты не знаешь меня. Ты не моя жена, а Олечка – не моя дочь. Вы просто гостили в этом доме и просто дали приют человеку с приличной внешностью, отрекомендовавшемуся старым знакомым хозяев. Одно дело – просто богатая дамочка «из бывших» и совсем другое – жена белого офицера, только что пойманного и приговоренного военно-полевым судом, понимаешь? Если вы с Олечкой сыграете свою роль правильно, они поверят нам. Только в этом случае у меня есть шанс спасти вас…
– Он так и сказал: у меня есть шанс спасти вас, – продолжала Анна, по-прежнему глядя куда-то вдаль невидящими, слезящимися глазами. – Как будто бы от него еще что-то зависело, как будто бы он, мужчина и офицер, по-прежнему мог отвечать за все происходящее вокруг, за судьбу нашей семьи, за жизнь жены и дочери… Он не хотел понимать, что человек не способен бороться с лавиной, стихией, что даже великан был бы бессилен перед случившимся и что ничто уже не может спасти нас. Я говорила ему какие-то правильные слова о Боге, о церкви, нашем браке и о том, что жена должна следовать за мужем, и, значит, мы должны разделить его участь. Но он был непоколебим.
Еще бы, горько усмехнувшись про себя, подумала я в этом месте Анечкиного рассказа. Петр Волошин просто слишком хорошо знал, что революция – это голодный зверь, жаждущий напиться чьей-то крови: любой, все равно чьей, но обязательно горячей и свежей. И если кинуть зверю эту жертву, напоить его досыта, удовлетворить его страстное, ненасытное желание власти, смерти, чужой муки, то есть еще шанс спасти остальных невинных. Потому он и совершил невозможное: нашел такие слова, которые заставили жену в эту минуту повиноваться ему и поклясться, что она все сделает так, как он просит. А потом он встряхнул за плечи маленькую, испуганную девочку и сказал ей прямо в плачущие глаза: «Ты тоже не знаешь меня. Я чужой. Я плохой, злой, понимаешь?.. Твой отец был хорошим человеком, Олечка. Я – не он».
Она была еще слишком мала, чтобы спорить и сопротивляться, так что своего Волошин добился быстро: он напугал малышку еще сильнее, еще смертельнее… А потому, когда дверь наконец распахнулась, ворвавшиеся в подвал люди увидели, как разбросаны по разным углам, отчуждены и молчаливы друг с другом белый офицер и молодая печальная женщина, обнимающая горько плачущую дочку.
– Нас выволокли на улицу, на снег, – говорила Анна, точно рассказывала обо всем этом не мне, а Богу, давая ему последний и страшный отчет. – А потом все было как во сне. Кто-то кричал: «Бей буржуев!», кто-то вопил: «К стенке офицера и его суку! И их отродье туда же», кто-то просто смеялся полупьяным, звериным смехом, огрызаясь и постреливая в воздух… Солдат в потрепанной шинели, размахивающий «наганом», грязный, цедящий слова сквозь зубы, – он был теперь новым хозяином жизни, и моим хозяином тоже, и хозяином нашей общей судьбы. Я никогда не забуду его лица.
– Олечка тоже видела все это? – спросила я Анну тихо, едва осмеливаясь заговорить. Но пауза, повисшая в вагоне, была такой томительной и страшной, что я должна была – не смела иначе – вырвать подругу из плена воспоминаний о той минуте.
Она вздрогнула, повернулась лицом к дочери, которая, умытая и накормленная, давно уже сладко посапывала рядом с моей Асей, и медленно, точно припоминая что-то, сказала:
– Надеюсь, что нет. Не видела. Побоев отца, во всяком случае, точно. Я спрятала ее голову под свой платок, который успела накинуть в прихожей перед тем, как нас вытащили из дома. И еще зажала ей ушки ладонями. Она дрожала мелко-мелко, как зверек, попавший в капкан. Но не видела, не видела, не видела…
Петр Волошин сносил побои молча, не жалуясь, не глядя на своих мучителей. И только когда ему задали прямой вопрос, поднял наконец голову и, сплевывая кровь из разбитого рта, посмотрел прямо в глаза тому, от кого зависело теперь последнее, может быть, самое важное дело в его жизни.
– Ты кто такой? Как твоя фамилия?
Он назвал ее.
– Чин? Где служил, в каком полку?
Ответил и на это.
– А это что еще за баба с тобой? Жена?
Вот он, этот самый важный момент. И Волошин усмехнулся разбитыми губами и кивнул в сторону застывшей Анны:
– Эта-то? Понятия не имею. Первый раз вижу.
– Врешь, – снисходительно процедил солдат. – Спасти свою сучку пытаешься. Говори правду, не то хуже будет.
И тут Петр сказал то, что, наверное, всю жизнь будет потом сниться его жене в кошмарных снах. Презрительно и оценивающе оглядев ее, он подмигнул своему мучителю и проговорил тоном, какого Анна никогда прежде не слышала от него:
– Гладкая бабенка, конечно. Но я б на такой никогда не женился. Не в моем вкусе… Какая-то хозяйская родственница, черт ее знает. Попросился к ним переночевать, а гляди, как вышло…
– Не врешь? – все еще недоверчиво, с нажимом переспросил тот, кто не бил его и до сих пор не задал ни одного вопроса, а просто стоял в стороне, с интересом наблюдая за происходящим. И, поймав слабый кивок допрашиваемого, с непонятным удовлетворением протянул: – Ну, гляди, сам напросился. Сейчас проверим – и тогда, брат, не жалуйся.
Он подошел к оледеневшей Анне, быстро, рывком, выдернул из ее объятий сжавшуюся от страха девочку и, наклонившись прямо к ребенку, выкрикнул в лицо:
– Ты знаешь, кто это? Это твой отец? Говори.
Олечка молчала, затравленно помаргивая глазами, не в силах понять, о чем ее спрашивают. Мельком взглянув на мать, большевистский начальник отвел девчушку в сторону, затряс ее за маленькие плечики и принялся повторять: «Это твой папа? Это твой папа? Отвечай!»
– Мне кажется, она и не смогла бы отвечать в тот момент, даже если б хотела, – и Анна мягко положила руку на голову спящей дочери, все еще глядя куда-то вдаль застывшими глазами. – Она была так напугана, что не могла вымолвить ни слова. А я – вот странно! – в тот момент смотрела вовсе не на Олечку, а на человека, который был для нас самым родным и так старательно отрекался от нас в последние минуты нашей жизни. Мне трудно простить его за это, Наташа, – и голос ее понизился до бессильного шепота. – Лучше бы он признался. Лучше бы все кончилось еще тогда, быстро и сразу. Но Волошин всегда был упрямым и никогда, никогда не слушал меня…
Странная, нездешняя, совсем не из нынешней жизни улыбка тронула губы моей подруги, и она досказала все дальнейшее в нескольких словах. Олечка была умной и сообразительной девочкой и вдобавок привыкла доверять своему отцу, слушаться его. А потому, как только губы девочки обрели способность шевелиться, она тихо ответила так, как учил ее Волошин в темном, холодном подвале: «Я не знаю этого дядю. Он плохой, чужой… Мой папа был хороший…» Был! Господи ты боже мой – был!.. И в этот момент Анна, неотрывно смотревшая на мужа, увидела, как болезненно, горько, едва заметно дрогнули его губы от детского, невинного, им же самим инспирированного, – но все же предательства. А потом он закрыл глаза, и голова его упала на грудь, дернувшись от скрытой душевной боли, точно от электрического разряда.
– Ну, убедились теперь? – пробормотал он. – Оставьте ребенка в покое, сволочи. Вы же видите, я их не знаю. Они ни при чем.
– Все при чем, – лениво возразил солдат, начинавший его расспрашивать самым первым. – Богатенькие, знатные – все вы при чем, все вы душители жизни народной.
– Да хлопнуть их вместе, разом – и дело с концом, – подал голос еще один, стоявший поодаль, и поднял вверх винтовку. – Чего с ними церемониться? Кто эту бабу искать будет, кому она нужна?
– Э, нет, – задумчиво протянул тот, кого Анна определила для себя как «главного». – С дамочкой сперва разобраться надо. Если они не родня офицерику, то мы еще посмотрим, что с ними делать. И как их использовать…
И он метнул на женщину взгляд, за который в прежние времена, да будь он из хорошего общества, Анечкин брат непременно вызвал бы его на дуэль. Но не было давно в живых ее брата, сложившего голову еще в восемнадцатом, и не было рядом отца, должно быть, лечившего в этот момент какого-нибудь очередного больного в своей маленькой московской больничке… А муж Анны, стоявший рядом, уронив голову на грудь, точно и не видел, не слышал ничего сказанного. Он только улыбнулся сквозь заледеневшие, запорошенные снегом усы, когда за спиной его раздался совсем новый, незнакомый голос и кто-то строгим, не терпящим возражения начальственным тоном произнес: