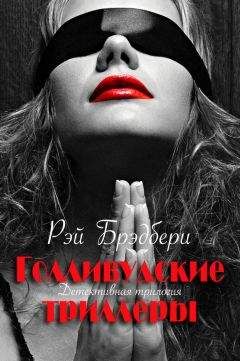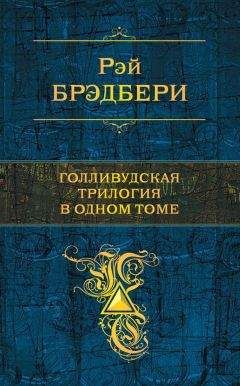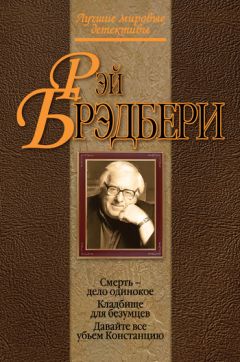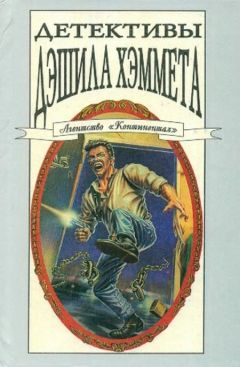Рэй Брэдбери - Голливудские триллеры. Детективная трилогия
Мне хотелось прокричать темным коридорам то же, что я собирался выкрикнуть ночному берегу перед арабской цитаделью Констанции Раттиган: «Убирайтесь! Оставьте нас в покое. Может, по-вашему, мы и заслужили смерть, но мы не хотим умирать!»
Однако, обращаясь в пустоту, я крикнул другое:
— Так, ребятки! Порезвились и хватит! Ступайте, ступайте! Брысь! Вот молодцы! Доброй ночи!
Я подождал, пока несуществующие ребятки разошлись по своим несуществующим комнатам, вернулся к Фанни, прислонился к притолоке и, фальшиво улыбаясь, закрыл дверь.
Трюк сделал свое дело. Или Фанни притворилась, что поверила мне.
— Из тебя выйдет хороший отец, — улыбнулась она.
— Да нет, я буду как все отцы — неумный и нетерпеливый. Этих ребят надо было накачать пивом и засунуть в койки давным-давно. Ну что, Фанни? Лучше тебе?
— Лучше, — вздохнула она и закрыла глаза.
Подойдя к ней, я обхватил ее руками, что было сродни полету Линдберга[126] вокруг земного шара под восторженные вопли толпы.
— Все рассосется, — сказала Фанни. — Ты теперь иди. Все в порядке. Ты же сам сказал — ребятишки уже в кроватях.
«Какие ребятишки?» — чуть не ляпнул я, но прикусил язык. Ах да, ребятишки.
— В общем, с Фанни все благополучно, и ты иди домой. Бедняжка. Поблагодари Констанцию, но скажи ей от меня: «Нет, спасибо». Пусть приедет ко мне в гости. Миссис Гутьеррес обещала переночевать у меня. Она может спать на этой кровати — представляешь, я не сплю на ней уже тридцать лет! Не могу лежать на спине, задыхаюсь. Словом, миссис Гутьеррес придет сюда, а ты, мой дорогой, был очень добр, что зашел. И я знаю, что ты вообще очень добрый, ты просто не хотел меня расстраивать, вот и не сказал, что наши друзья внизу умерли.
— Да, Фанни, поэтому.
— Но в их смертях не было ничего необычного, верно?
— Нет, Фанни, — солгал я. — Всему виной только глупость, изменившая красота и уныние.
— Господи! — воскликнула Фанни. — Изъясняешься как лейтенант с мадам Баттерфляй.
— Потому-то мальчишки и лупили меня в школе.
Я двинулся к двери. Фанни глубоко вздохнула и внезапно сказала:
— Если со мной что-нибудь случится — совершенно не обязательно, но вдруг! Загляни в холодильник!
— Куда?
— В холодильник, — с загадочным видом повторила Фанни. — Сейчас не смей!
Но я уже дернул дверцу и уставился в освещенное нутро. На меня смотрели ряды банок — желе, джемы, соусы, майонез. Обведя их долгим взглядом, я захлопнул холодильник.
— Я же просила не смотреть сейчас, — упрекнула меня Фанни.
— Мне ждать некогда. Я должен знать.
— Ну а я теперь ничего тебе не скажу, — вспылила она. — Нечего было подглядывать! Я как раз собиралась признаться, что это, может, по моей вине нечисть пробралась в дом.
— Нечисть, Фанни? Какая нечисть?
— Ну, вся эта мерзость, которую, как мне казалось, ты приволок сюда на своих подошвах. Только, может, это дело рук Фанни. Может, я сама во всем виновата, может, я зазвала эту гадость с улицы.
— Так зазвала или нет? — взревел я, наклонившись над ней.
— Ты меня больше не любишь?
— Люблю, черт побери! Я же хочу вытащить тебя отсюда, а ты не даешься. Обвиняешь меня, что я отравил вам тут уборные, теперь заставляешь исследовать холодильник. Господи Иисусе, Фанни!
— А теперь лейтенант рассердился на Баттерфляй. — Из глаз Фанни выкатились слезы.
Больше я вынести не мог.
Я открыл дверь.
Перед ней стояла миссис Гутьеррес — наверно, она уже давно стояла за дверью и, как всегда, будучи дипломатом, держала в руках тарелку с горячими тако[127].
— Я завтра позвоню, Фанни, — пообещал я.
— Звони, конечно, и Фанни будет жива.
«Интересно, — думал я, — если я крепко зажмурюсь и притворюсь, что я слеп…
Найду ли я комнату Генри?»
Я постучался к Генри.
— Кто это? — отозвался он из-за запертой двери.
— Кто это спрашивает «кто это»? — сказал я.
— Кто это спрашивает, кто это спрашивает «кто это»? — Генри не выдержал и рассмеялся, потом вспомнил, что он расшибся. — Ты, значит.
— Впусти меня, Генри!
— Да я нормально. Ну, слетел с лестницы, и все дела. Ну, чуть не убился до смерти, эка важность. Дайте мне тут отлежаться взаперти. А завтра я выйду. Ты добрый парень — вон беспокоишься, жив ли я.
— Генри, как это случилось? — спросил я запертую дверь.
Генри подошел ближе. Я почувствовал, что он прислонился к двери с другой стороны, словно исповедующийся перед окошечком священника.
— Он мне поставил подножку.
Кролик, запрыгавший у меня в груди, превратился в большую крысу, и она заметалась вверх-вниз.
— Кто, Генри?
— Ну этот! Сукин сын! Поставил мне подножку, мерзавец.
— Он что, сказал что-нибудь? Откуда ты знаешь, что он был здесь?
— Откуда, откуда! Откуда я знаю, что в холле горит свет? Чую. Тепло чую. Там, где он стоял в коридоре, прямо жарко было. А потом, он же дышал! Я слышал, как он тихо так, осторожно втягивал в себя воздух и выдыхал. Он ни слова не сказал, когда я проходил мимо него, но я-то слышал, как у него сердце бьется — бух, бух. А может, это мое так бухало. Я-то думал, проскочу мимо него так, что он меня не заметит. Ведь мы — слепые — как рассуждаем? Раз я в темноте, так, поди, и другие тоже. И вдруг — бух! И я под лестницей и понять не могу, как я там очутился. Я давай звать Джимми, Сэма и Пьетро и вдруг вспомнил: идиот, они же все умерли, и ты, дурак, помрешь, если не крикнешь кого другого. Ну и стал орать подряд все имена без разбору. Двери захлопали, чуть с петель не сорвались, тут он и выскочил. Вроде он даже босой был, так тихо скакнул. Но я учуял, как пахло у него изо рта.
У меня перехватило дыхание, и я оперся о дверь.
— Ну и чем от него несло?
— Надо подумать. Потом скажу. А сейчас Генри лучше прилечь. Черт! Я даже рад, что слепой. Не хотел бы видеть, как я валюсь с лестницы, будто мешок с грязным бельем. Ну, пока.
— Спокойной ночи, Генри, — сказал я.
Я повернулся, но в тот же момент и дом, как огромный пароход, сделал поворот против речного ветра в темноте. Мне померещилось, что я опять в час ночи сижу в кинотеатре мистера Формтеня, а под сиденьями пол ходит ходуном, оттого что прилив чмокает, хлюпает и сотрясает половицы, а по экрану скользят большие серебристо-черные тени. Дом опять содрогнулся. Кинотеатр все-таки другое дело. А здесь, в этом огромном, старом, плохо освещенном здании, тени, сбежав с экрана, таились у лестничных пролетов, прятались в ванных, вывинчивали по ночам лампочки, чтобы всем приходилось, как слепому Генри, искать выход на улицу ощупью.
Пришлось двигаться на ощупь и мне. На верхней площадке я замер. Кто-то дышал, и воздух передо мной колебался. Но оказалось, что это всего лишь эхо моих же вдохов и выдохов: отражаясь от стен, оно возвращалось ко мне и касалось моего лица.
«Ради Христа, — внушал я себе, — не оступись, сбегая вниз».
Когда я вышел от Фанни, лимузин выпуска 1928 года с шофером ждал меня. Дверца захлопнулась, мы помчались к Венеции, и на полдороге сидевший впереди водитель снял кепи, распустил волосы и превратился…
… в Констанцию Раттиган — следователя, ведущего допрос.
— Ну? — спросила Констанция холодно. — Очень она встревожена?
— Не то слово! Только встревожил ее не я.
— Да?
— Да! Черт побери! Остановитесь вон там и высадите меня на ближайшем углу к чертовой матери!
— Ну, ну, мистер Хемингуэй! Для робкого мальчика из Северного Иллинойса выражаетесь вы лихо!
— А подите вы, мисс Раттиган…
Это возымело действие. Плечи ее слегка обмякли. Она поняла, что может потерять меня, если не будет поосмотрительней.
— Констанция, — уже спокойнее поправила она.
— Констанция, — повторил я. — Не моя вина, что кто-то утонул в ванне, кто-то перепил, кто-то свалился с лестницы, а кого-то забрала полиция. Почему вы-то сами не поднялись к Фанни прямо сейчас? Вы же ее старый закадычный друг!
— Я боялась — вдруг, если она увидит нас вместе, ее кондрашка хватит и мы не сможем ввести ее в рамки.
Констанция сбавила скорость с довольно-таки истерической — семьдесят миль в час до менее нервозной — шестидесяти или шестидесяти двух. Но ее пальцы, как когти, впивались в руль, будто она воображала, что это мои плечи, и собиралась как следует тряхануть меня.
— Лучше бы вам, — сказал я, — увезти ее оттуда раз и навсегда. Сейчас она неделю спать не будет, а это ее доконает, она не выдержит изнеможения. И нельзя же все время питаться одним майонезом!
Лимузин замедлил бег до пятидесяти пяти миль в час.
— Здорово тебе от нее досталось?
— Да нет, просто, как и вы, она обозвала меня Прислужником Смерти. Видно, я для всех козел отпущения, просто какой-то разносчик чумных блох! Что бы там ни творилось в доме Фанни — а что-то творится, это факт, — я тут ни при чем. И плюс ко всему Фанни сама выкинула какую-то глупость.