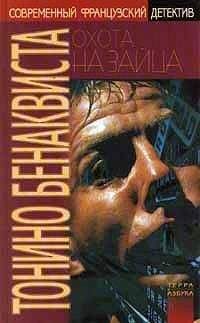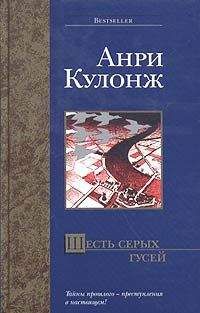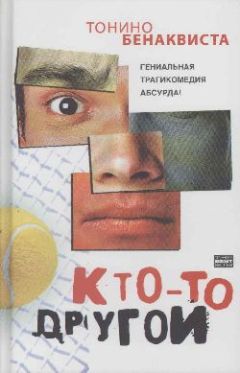Тонино Бенаквиста - Комедия неудачников
— И тут вдруг нотариус объявляет, что прибыл новый владелец. Я себе чуть пальцы до крови не искусал. Как это понимать, я вас спрашиваю? Откуда он взялся, этот малый? Почти такой же, как Дарио. Может, чего-то в нем больше, может, чего-то меньше, не знаю. И я себе тогда сказал, конечно, что еще ничего не потеряно и что я еще успею выкупить у него землю раньше, чем он догадается. Но его ни деньгами, ни побоями было не пронять, и этот новый парижанин оказался еще упрямее, чем тот…
…Не буду тебя убеждать, что на Рождество сорок первого все мы еще твердо верили в Бога. Но у каждого в сердце все-таки оставалось что-то, у кого невеста, у кого ребенок, и вот этим-то существам нам бы и хотелось сказать, что мы их защищаем или спасаем… Ну да, будь я проклят… И вот четыре года спустя мы еще меньше, чем в начале, знаем, какого черта делаем здесь. К тому же на этот раз мы по-настоящему остались совсем без жратвы. В Бога мы больше не верили или, наоборот только в него еще и верили, потому что в тот самый раз, двадцать пятого декабря, нам довелось пережить такое, что, хочешь верь, хочешь нет, но только это можно назвать настоящим чудом. Да, чудо, по-другому я и сказать не могу. Мы тогда вдруг прознали, что в семи километрах от нашей дыры расположился фашистский гарнизон и у них там полным-полно продовольствия. Мы начали прикидывать между собой, кто пойдет. Хотя выбор был невелик: двое из нас не переносили холода, значит, оставались трусоватый малыш Роберто да компаре мой, про которого тоже нельзя было сказать, что он ему пример храбрости подавал. Вот и выходило, что в любом случае пошел бы я, потому что у меня уже всякое терпение лопнуло и я сам этого хотел. Компаре вздумал было меня удерживать, потому что боялся со мной разлучаться, но я ему твердо пообещал, что вернусь. Робертино дал мне свои башмаки, и я пошел. И вернулся. Но я тебе даже не смогу толком рассказать, как все это вышло, потому что я и сам об этом мало что помню… Я там с ними о чем-то говорил, прикидывался, что слушаю, все об Италии новости расспрашивал. Только плевать мне было на все это. Единственное, что у меня тогда на уме было, это их продовольственный склад. Я у них поел, а они потешались над моим видом. А один из тех, кто был у них за старшего, сказал мне, что, если я хочу получить шанс вернуться домой, мне стоит только надеть их форму. Он даже возьмет меня в свое отделение. Я прикинулся дурачком, сказал, что это и до утра может потерпеть, а когда все завалились на боковую, я у них спер восемь кило макарон. Восемь… Тебе это говорит что-нибудь? Я положил свою добычу в ящик и потащил. Думал, что помру по дороге от усталости, но стоило мне вспомнить, что я должен уйти от них как можно дальше, как эта мысль, сам не знаю почему, придавала мне силы. И я в конце концов добрался до своих, которые все еще меня ждали. Они чуть не заревели, когда я показал им свое сокровище. Желтое, как золото. Я сейчас не смогу тебе объяснить, как это получилось, но когда я воровал эти макароны, я даже не видел, какие именно. Темно ведь было, хоть глаз выколи. И только утром до меня дошло, что на ближайшее время у нас не будет ничего другого, кроме восьми кило ригатони…
Пощечина, которую влепил мне Портелья, заставила меня вернуться к действительности. Они покончили со своей тарелкой. Манджини ковыряет в зубах, лениво развалившись в своем кресле. Портелья подливает себе вина и отхлебывает, довольно хмыкая.
— Да, славненькое чудо он нам устроил, этот синьор Польсинелли… Хорошая была идея с праздником Гонфаллоне. Но одну вещь я все равно никак понять не могу… этот слепец, Марчелло…
Они оба замирают, переглядываются, потом придвигаются ко мне.
— Вы ведь нам объясните, правда? — спросил племянник.
— Ну конечно, он нам расскажет, что случилось с этим слепым мерзавцем. Я ведь этого пьянчугу давно знаю. И сколько я его знаю, он всегда либо руку тянул, либо в грязи валялся. Так что нечего из меня дурачка делать с этой басней о чудесном исцелении…
…Чудесам, в конце концов, и полагается совершаться в ночь под Рождество. Но макароны, особенно когда в последний раз ты их ел больше года назад, будут почище любого чуда. Компаре нам клятвенно пообещал, что не только не испортит их, но ради праздника в лепешку расшибется и состряпает самое вкусное, что только возможно. Он собрал все, что у нас было лучшего, и тут же изобрел рецепт, куда вошли кукуруза, украденная в одном амбаре, мята и одуванчики. Настоящее объеденье. Хорошо бы к этому было добавить что-нибудь красное, помидоры например, но даже сам Господь Бог не смог бы это найти там, куда нас занесло. Так что компаре нам состряпал «ригатони по-албански».
Мы нарубили дров, чтобы развести жаркий огонь под горшком, а сами расселись вокруг, словно в кино, и мало-помалу запах соуса вскружил нам голову. Никогда я не нюхал ничего подобного за всю мою жизнь. Мне вдруг показалось, что желудок мой разверзся, словно пропасть, и я подумал, что все эти восемь кило макарон запросто могли бы там поместиться…
В этот раз Портелья расплющил мне кулаком нос. Внутри что-то хрустнуло и повлажнело.
История со слепым их явно раздражает. Для них это единственное темное место во всем фокусе, и наверняка Манджини с племянником не убьют меня, пока не дознаются, в чем тут дело. Кровь течет по моим губам, и я не знаю… не знаю…
Вдруг мои глаза наполняются слезами.
…После этого пиршества мы целый день валялись брюхом кверху, не сходя с места, не говоря ни слова, ожидая, пока все тело насладится без помех этим блаженством Ну, и как ты думаешь, о чем все думали после такой голодухи? Конечно, об одном и том же… о вине… о красном вине. Но этого даже сам Господь Бог не смог бы раздобыть там, куда нас занесло. А просить два чуда подряд, это уж… Робертино неплохо помнил катехизис, и вот он нам оттуда читал наизусть про претворение хлеба и вина. Мы его особенно насчет вина просили повторить. А один из нас даже поклялся, что если только вернется домой, то займется виноделием, но никому ничего продавать не будет. Да вот только не вернулся он. Конечно, восемь кило ригатони оттянули конец. Уж мы их растягивали как могли. А компаре настолько приохотился к своему соусу, что нам так и не удалось его убедить придумать что-нибудь новенькое. Как бы там ни было, все мы ждали смерти. Мы думали о ней, как и все остальные солдаты… Только мы уже не были никакими солдатами… И вот что я тебе скажу, сынок, я уже заплатил и за тебя, и за твоего брата, и за тех сыновей, которые у вас будут, чтобы вам никогда не сидеть в таком дерьме…
Манджини больше не выдерживает. Мое молчание только распаляет его злобу. Зачем ему оставлять меня в живых?
— Тебе же не будет от этих денег никакого проку, Антонио… Иначе мне стало бы слишком обидно. И слишком больно. И сам посуди, как я могу выпустить тебя отсюда теперь, когда ты знаешь, что это я убил того дурака?
Я изо всех сил пытаюсь говорить.
Торговаться.
Отбиваться.
Но мне не удается даже открыть рот.
Боюсь, что меня ждет тот же конец, что и тебя, Дарио.
Наверное, я должен испытывать страх. Это было бы естественно.
Но ничего такого не происходит. И я не знаю почему.
— Вот досада… А я все-таки не прочь узнать, в чем там был подвох, в этой последней проделке Дарио… Как ему удалось вернуть зрение этому слепому… Это ведь была его идея, верно? Вы и впрямь друг на друга похожи…
Манджини берет меня за подбородок большим и указательным пальцами. Он сильно сжимает его и поворачивает мое лицо к свету, чтобы получше рассмотреть.
Голос его звучит мягче. В глазах даже появляется мимолетное выражение какой-то нежности.
— Антонио, ты… ты совсем как Дарио… Но еще больше ты похож на одного… другого… Впрочем, оно и неудивительно.
…В феврале умер Робертино, по дороге в Тирану, и мы с компаре опять остались вдвоем, как и в самом начале. Это была прямо загадка какая-то. Можно подумать, нас и смерть не брала, пока мы были вместе, но стоило нам расстаться хоть ненадолго, и мы тут же оказывались в смертельной опасности. Мы все шагали и шагали и думали о корабле. А потом однажды ночью заметили какой-то лагерь — огни, шум. Компаре хотел сразу же идти туда из последних сил, но я его не пустил, ведь мы даже не знали, кого там найдем — немцев, партизан, фашистов, друзей или врагов, так что лучше всего было дождаться утра. И я лег спать, сказав ему: «Доверься мне, дурень. До сих пор тебе это несчастья не приносило». А утром меня разбудили ударом сапога, представляешь?.. Фашисты… Вот уж повезло так повезло. Я сразу подумал, что мы с компаре вляпались в дерьмо еще глубже, чем накануне. Поднимаю глаза… и тут вижу этого придурка вместе с ними, уже во всем новеньком, в черном. Сначала я даже не совсем понял, спросонья-то, вылупил на него глаза и говорю: «Э… э… ты что, рехнулся? Только этого не хватало, нам же домой надо». Уж не знаю, что он им успел про меня наплести, но только когда один из них вытащил пистолет и велел идти за ним, я кинулся бежать как угорелый. Тут-то пулю в ногу и получил. Боль от этой раны меня до сих пор донимает. А они, должно быть, решили, что прикончили меня, и никто не пошел проверить. Даже он…