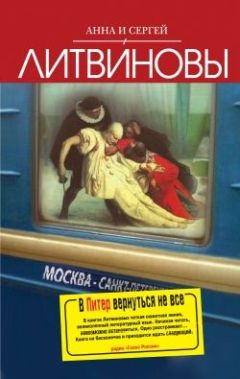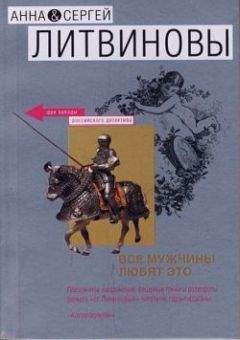Анна и Сергей Литвиновы - В Питер вернутся не все
Другое дело, что восстановить собственный материальный достаток времен развала Союза Царевой не удалось. Надо было есть и пить, и покупать наряды, и появляться у коллег на юбилеях, и выступать (когда звали) в телевизионных ток-шоу. А это требовало все новых и новых затрат на гардероб и красоту. Квартиры же и дачи стали стоить совсем уж несусветные миллионы. Так и осталась она в поганой панельной «однушке». Машину разве что сумела купить – малютку «Поло».
А главное, в какой-то момент Эльмира, в минуту горчайшего откровения, осознала, что погоня за молодостью, утянувшая из нее столько здоровья, денег, душевных и физических сил, есть не что иное, как химера. Заявлениями, что ей, дескать, слегка за тридцать, она могла обмануть только совсем уж пустоголовых мальчиков. Конечно, с ними – сильными, твердыми, неутомимыми – Эля получала настоящее наслаждение. Да только даже мальчишки, добившись своего и протрезвев наутро, как правило, долее одной ночи рядом с нею не задерживались. А мужики, хоть что-то из себя представляющие, хоть с минимальными деньгами и положением, казалось, безошибочно чувствовали, сколько ей на самом деле, и никак не откликались на ее попытки завязать отношения. Оставались лишь альфонсы – хотя и те быстро линяли, едва лишь понимали, что «старушка» не может обеспечить ничего, кроме совместных походов в ресторации и ночевки в однокомнатной (вместе с собою) квартирке в «панельке». Ну, и еще попадались инфантильные, недолюбившие в детстве собственных мамочек, бескорыстные поклонники женщин намного старше себя («мои геронтофилы» – как с ласковым цинизмом называла их Царева). Только разве это уровень? И разве могли такие любовники дать ей хоть что-то кроме мимолетного удовольствия?
А женщины! Если мужики порой ошибались, то эти все стервы, без исключения, безошибочно, чуть не с точностью до года, определяли, сколько актрисе на самом деле лет. И их скептические, понимающие, насмешливые взгляды сводили ее усилия на нет...
Лишь теперь Эльмира поняла, что самое главное – не тело, не лицо, не фигура, не грудь и не живот. Главное – душа. А ее обмануть оказалось невозможно. Когда Эле исполнялось, к примеру, пятьдесят пять – она и чувствовала себя на все эти проклятые пятьдесят пять. Несмотря ни на что. Ни на натужное веселье, ни на антидепрессанты или витамины. Как писал Маяковский (которого она когда-то читала по периферийным концертам): «Все меньше любится, все меньше дерзается... И лоб мой с размаху время крушит... Приходит страшнейшая из амортизаций – амортизация тела и души».
Самым же ужасным оказалось иное. В пору, когда Эля столь фанатично боролась за омоложение, она, бывало, взмаливалась богу: возьми у меня все – дай мне одну лишь молодость! Но светлый Бог не приемлет сделок. Зато... Зато ее услышал сатана. И за юность – ненастоящую, поддельную – он решил отнять у актрисы то самое дорогое, что у нее, оказывается, было.
Дочь.
Да, у Царевой была дочь. Она ее не то чтобы не любила, но всю жизнь относилась к своему ребенку прохладно и даже не считала нужным особенно свои чувства маскировать. С дочерью ей всегда было немного неуютно, неловко, даже стыдно. Словно жали туфли или костюм был скроен не по фигуре. Зачатая случайно, рожденная от нелюбимого – только потому, что уже за тридцать и вроде пора обзаводиться потомством, – дочь никогда не вызывала у Эли пресловутых материнских чувств. Скорее воспринималась досадной помехой в ее яркой, талантливой, полной впечатлений жизни.
Слава богу, было с кем Иру оставить. Имелось, кому поручить – деду с бабкой. И уж там дочка получала всего сполна – полной горстью, от всей широты любви. Купалась в лучах обожания и вбирала знания, навыки и манеры. А ее мама... Конечно, в совсем еще неразумные годы дочка тянулась к ней. Бежала навстречу, растопырив ручонки. Бросалась на шею. А потом, взрослея и чувствуя мамино отчуждение, мамину нелюбовь, тоже постепенно научалась быть холодной. Вежливой, послушной, но – холодной.
Старики («деды», как их называла Царева) во внучке души не чаяли. Они оба, Эллины отец и мать, сами недолюбили в юности собственную дочку. Женившись, когда обоим было по восемнадцать – ошалевшие от того, что кончилась война, что оба живы, они некогда бездумно дали жизнь Эле. А потом тяжко учились, отправив дочку на Кубань, на хутор, к отцовым родителям. А затем мотались по Союзу, возводя новые ГЭС, перекрывая могучие Енисей да Ингури. Но когда минуло Эле тридцать лет, а им обоим стало под пятьдесят, «дедам» вдруг мучительно захотелось бескорыстного тепла – давать его и принимать. Поэтому рождение Элиной дочки пришлось для них очень кстати. Мама даже работу бросила, выйдя на пенсию на шесть лет раньше срока.
И вышла та же история. Эля в свое время росла с бабушкой-дедушкой, Иришка повторила ее судьбу.
Мама – актриса. Маме надо много работать. Зато дед и бабуля души в ней не чают. А мамочка приглашает на все премьеры. И можно сидеть на лучших местах, гордо оглядываясь, когда мамулю снова и снова вызывают на поклон. И еще – новые фильмы в Доме кино. И там, на экране, – тоже мама. А в мультиках (о, это было самое яркое впечатление!) звучит за барсука или ежика мамин голос.
Иришка росла рассудочной, корректной. Не чета вспыхивающей, как порох, маме. Вся в деда и бабку. И была смышленой, памятливой. Выросла, выучилась: школу закончила с золотой медалью; в юридический поступила – выпустилась с красным дипломом. Поэтому и Эльмире случалось переживать моменты гордости – когда она сидела, традиционно меж дедом и бабкой, а Иришке на сцене вручали аттестат и золотую медаль, а спустя несколько лет – красный диплом. Устроилась девочка на хорошую работу, в престижную западную фирму, на огромную (даже по меркам Эльмиры) зарплату. Английский – свободно, стажировка в Америке... Было чем гордиться – на расстоянии, не приближаясь, с холодком.
Замуж Иришка, по-новомодному, не спешила. Продолжала жить с «дедами». Уже старенькими, порой чудившими, капризничавшими, теперь нуждавшимися во внучкином уходе. Но в этой странной семейке, как бы лишенной центрального, срединного поколения, все равно царили любовь, и понимание, и теплота. А мама Эля приезжала к ним в гости: на Пасху, Рождество, День Победы. С гостинцами и дорогими подарками.
Разумеется, если не было в тот день спектакля или гастролей.
Однако ничто не вечно. В одночасье умерла бабушка, Элина мама. Не выдержав разлуки – первой за шестьдесят лет, – за нею последовал отец, переживший среднестатистического россиянина своего поколения на двадцать лет.
Эля осиротела – формально.
По-настоящему осиротела Иришка.
А спустя еще полгода, в полном соответствии с поговоркой «Пришла беда – открывай ворота», Ирочке поставили диагноз. Болезнь, поразившая тридцатилетнюю успешную юристку, оказалась из тех, чье именование стараются даже не произносить – словно имя злого языческого бога, опасаясь упоминанием вызвать его из черноты, навлечь на себя его гнев. Но... Иришку этот монстр стал пожирать хоть и медленно, но неотвратимо.
Рак оказался из тех, что почти не лечатся. Врачи могли лишь оттянуть конец. Теперь, в отличие от того, что было принято в советские времена, эскулапы ничего не скрывали, говорили в открытую. Организм молодой, химиотерапия пока помогает. Сколько больная продержится, зависит от внутренних ресурсов. Может, шесть лет. Может, четыре.
Имеется, правда, шанс решить проблему кардинально. И исцелиться. Но вероятность успеха – процентов около тридцати. Операцию делают только за границей. Нужны деньги. Очень большие деньги.
И теперь – когда Эля видела (она переехала в дедовскую квартиру, к Иришке), как с каждым месяцем (а порою с каждым днем) становится все худее дочкино личико, как появляются новые морщинки, вылезают волосы и уходит аппетит, она вдруг – впервые в жизни! – почувствовала ту самую, подлинную материнскую любовь. Поняла, как дорога ей эта тридцатилетняя уже женщина. И стыдно ей стало за собственную прежнюю нелюбовь, захотелось наверстать упущенное и жить с нею – жить не своими победами, а болями дочери. До звериной тоски, до воя хотелось, чтобы Ирочка – просто жила!
Все – побоку. Красота, успех, роли, мужчины. На все – плевать. Лишь бы дочка не угасала. Лишь бы подольше не оставляла ее, Элю. Лишь бы жила.
Ехать за рубеж или не ехать, делать операцию или нет, рисковать или понадеяться на авось – вопроса перед матерью и дочерью не стояло. Обе целеустремленные и привыкшие добиваться своего, решили безоговорочно: ехать, делать, рисковать. Но...
Оставался самый главный барьер: не было денег.
Вот когда Эльмира особенно пожалела о своем растранжиренном в девяностые годы имуществе. Она его израсходовала на ничтожное – на погоню за ускользающей красотой. За химерой, как оказалось.
Западная юрфирма, столь высоко (вроде бы) ценившая Иришку, в кредите отказала, хоть и облекла свой отказ в красивую упаковку политкорректных словес.