Сергей Дигол - Утро звездочета
— Ты еще маленькая, — прячет сын телефон за спину.
— Пааапаа!
— Но Лерочка, — я стараюсь говорить нежно, — ты и в самом деле можешь уронить телефончик. И папу будут ругать на работе.
— Нет, — вертит она головой.
— Но ведь можешь, — уговариваю я.
— Не будут ругать, — убеждена она.
— Пап, а это такой Айфон? — интересуется Андрейка.
Телефон он снова держит перед собой, время от времени уворачиваясь от посягательств Леры, и это, признаться, выглядит не менее опасно, чем телефон в ручках дочери.
— Лучше, чем Айфон, — говорю я, но по глазам Андрея не скажешь, что он склонен полагаться на мое мнение.
— А можно нажимать? — спрашивает он.
Я киваю, ничем не рискуя. Экран я заблокировал сразу после того, как отправил сообщение, и все, что может Андрей — это смотреть, как от нажатий его пальчиков кнопки на мгновения меняют цвета.
— Что ты нажал? — кричу я, не сразу сообразив, что в звонке вызова нет никакой вины сына.
Впрочем, он уже бледнеет от испуга и протягивает мне телефон.
— Мария, — чуть слышно говорит он.
— Что? — хмурю я брови.
Сын прав. И хотя сегодня совсем не четверг, надпись на дисплее не может обманывать. Звонит действительно Мария, и я впервые прихожу к выводу, что имена из телефонной книжки могли бы высвечиваться и не таким крупным шрифтом.
— Я сейчас, — говорю я детям, вставая из-за стола.
— Я здесь, здесь, — в большей степени артикулирую, чем говорю я в ответ на их напуганные взгляды, когда, спохватившись, понимаю, что отошел от столика слишком быстро и чересчур далеко. Достаточно далеко, чтобы дети почувствовали себя брошенными.
— Сегодня в десять футбол, — сообщает Мария. — Финал турнира, — уточняет она.
Бедная Мария! Как безнадежно далека она от футбола, а ведь иногда я кажусь себе тупым — из-за того, что мне ничего не говорят фамилия тренера, дата важного матча или рекорд по забитым голам в одном матче. Но назвать чемпионат мира турниром — это слишком даже для меня.
Мария предлагает встретиться и, похоже, сегодня ей хватит твердости, чтобы не откладывать на другой день. По крайней мере, настаивать на этом.
— Я знаю одно кафе, — говорит она, — Там будут показывать матч. Сразу на семи экранах, представляешь?
Мне становится жалко Марию. В сущности, она совершенно не пользовалась положением Наташиной подруги, чтобы узнать меня поближе — я не имею в виду интимное общение. Мои привычки, привязанности, вкусы — все это для нее так и осталось темным лесом, и даже ставка на футбол ничего не дает: ей выпадает круглое «зеро».
— Я сегодня с детьми, — говорю я.
— Но ты же не до ночи будешь с ними, — напоминает Мария.
— Знаешь что? — собираюсь с духом я, но в последний момент чувствую, что на решительный шаг меня снова не хватит. — Я устал. Очень устал. Такая сумасшедшая выдалась неделя.
— Ничего страшного, — кротко говорит Мария.
Я, должно быть, успела взволновать ее, и теперь она преисполнена благодарности за то, что все обошлось коротким испугом.
— Я тогда позвоню на неделе, — говорит она. — На следующей неделе. Ладно?
Я отключаю ее, даже не попрощавшись. Пусть, в конце концов, думает что хочет. Она и без того сегодня отличилась — потревожила меня в воскресенье, что совсем не внушает мне радужных ожиданий в отношении этой ее «следующей недели». Означает ли это, что теперь я должен все время жить в напряжении, ожидая звонка Марии в любой из семи дней?
— Хотите домой? — спрашиваю я детей и вижу их недоуменные взгляды.
— К нам, — уточняю я. — В наш старый дом.
Лера запускает в рот сразу три пальчика, при этом вид у нее самый серьезный. Андрей же несколько раз подпрыгивает на стуле, и это меня по настоящему радует. Не припомню, чтобы за один вечер я доставлял сыну столько восторга.
— Ура! — кричит он. — В наш дом!
— Но! — поднимаю я ладонь. — В начале — в наш парк.
— Ура, в парк! — ликует Андрей.
Спустя час, пока на берегу Красногвардейского пруда Лера собирает цветы и травинки, вслух выражая удивление их разнообразию, Андрей пытается, хотя и безуспешно, повторить пять прыжков над водой камня-лягушки, которые мне самому удаются лишь однажды. Когда же у сына камень подпрыгивает сразу шесть раз, и он растерянно оборачивается в мою сторону, я показываю ему большой палец и думаю о том, что Карасина могли ненавидеть в той же степени, что и пренебрегать им. Мне даже вспоминается роман Агаты Кристи, тот самый, про Восточный экспресс, и я усмехаюсь себе, детям и пруду, представляя, как звезды сцены скидываются на киллера и как после этого долго и страшно ссорятся, не договорившись о том, кто именно будет передавать собранные деньги наемнику.
Уже вечером, когда я лежу в постели, меня пронзает, напоминая о резкой боли в сердце, еще одна мысль. Мысль о том, что подбирая подходящий вариант самоубийства, я ни разу не вспомнил об отце. Я думаю об этом долго, ворочаюсь и не могу уснуть, и засыпаю лишь после того, как откуда-то сверху, у соседей, раздаются громкие и нестройные крики.
Лишь утром я узнаю, что это испанцы забили победный гол.
Кривляка Островский
Доходное местечко Константина Райкина
Известно, что театр — портрет его главного режиссера. Скорее, зеркало его внутреннего мира. Театр, безусловно, говорит о главреже куда больше, чем сам главреж говорит на публику и, может, даже больше того, что он думает.
Вот смотришь любой из спектаклей Театра на Таганке и понимаешь, что за фрукт Юрий Петрович Любимов. Человек, хотя и не выдающегося таланта, но уж никак не посредственность. Дерзкий, отчаянный, неуживчивый, хитрый, интересующийся. Он — альпинист-эктремал, которого не привлекают глубины, но манят неприступные скалы, на которые он карабкается без страховки и не считаясь с жертвами. Плевать он хотел, сколько людей испугается с ним идти, и не меньше плевать, сколько поверит ему и сколько по пути сорвутся в пропасть. Он знает точно, что сам дойдет, и кайф от этого пути ему ничто не в состоянии испортить. Наоборот, трудности лишь обостряют его удовольствия. Не в этом ли секрет его удивительного долголетия? Как творческого, так и, простите, физического?
От просмотра спектакля «Доходное место» в театре «Сатирикон» еще больше понимаешь постановщика и главного человека в театре — Константина Аркадьевича Райкина. Признаюсь честно, мне всегда казалось, что Райкин — невероятно глубокий человек, и что его темпераментное поведение на сцене всего лишь поза, символизм, знаковая система, шифр. Что-то вроде языка жестов немого философа. Его Каюм из истерна Михалкова мне казался самой трагичной фигурой фильма — классическим лишним человеком, не красным и не белым. Смерть для него стала настоящим избавлением, ведь даже представить себе, как он будет жить дальше, в стране победившего социализма, совершенно невозможно.
Сейчас же я прихожу к выводу, что даже Андрей Миронов, при всей внешней непредставимости в образе лысого, с восточным разрезом глаз азиата, был бы куда органичнее в этой роли, и смог бы придать картине еще больше смысловых наслоений.
Впрочем, мы сейчас рассуждаем не об актере Райкине, которого, кстати, в спектакле нет, а о Райкине-режиссере, который в спектакле, разумеется, присутствует. Есть ли он за кулисами, или в зрительном зале — я, честно говоря, не вникал, а на финальные аплодисменты не остался. В принципе, Константин Аркадьевич мог бы и отсидеться дома. Он в любом случае присутствует — незримо — в каждом сцене и в каждой мизансцене, в каждом произносимом актерами слове. А главное — в каждом их жесте. Вынужден констатировать — к сожалению.
Артисты в спектакле невыносимы, и это при том, что каждый из них — невероятно талантлив. Но свои безупречной красоты кубики режиссер Райкин заставляет извиваться, хотя прочные стройматериалы прекрасны тем, что они — не ртуть и не пластилин. Из них можно соорудить конструкцию, но для этого нужно сохранить их базовые свойства. У Райкина же получается провинциальный театр, причем не какой-нибудь Саратовский или Омский. На сцене — периферия в ее банальном представлении, провинция худшего пошиба. Такое ощущение, и боюсь, я не ошибаюсь, что Константин Аркадьевич прочел пьесу Островского впервые, и так и не отошел от шока. Впервые прочесть Островского на шестом десятке — не весть какой грех, но вот так заразиться пьесой (а у Райкина благодать зараженностью пьесой вылилась в суетливость и балаганность), это, боюсь, говорит о пробелах в образовании. Мысль, которую применительно к Константину Райкину, конечно же, допустить никак нельзя, в связи с чем я вынужден списать карнавальность совершенно некарнавальной пьесы на темпераментность режиссера.
Легендарный темперамент Райкина — и есть вся его натура. С этим выводом я покидал спектакль, не отказываюсь от него и сейчас. Возможно, Константин Аркадьевич в глубине душе мрачный философ, но его внутренняя атомная станция работает наперекор трагичному складу его характера. Ей для успешного функционирования хватает его поверхностных слоев. Что там припрятано в недрах — боюсь, мы можем этого и не узнать. Не боялся же Константин Аркадьевич отказать, если верить ему самому, Алексею Герману или, если верить им же придуманной легенде, Стивену Спилбергу. Отказывал — потому, что боялся потерять время. Он всегда этого боится — что потеряет время. А что он, если разобраться, приобретает взамен?



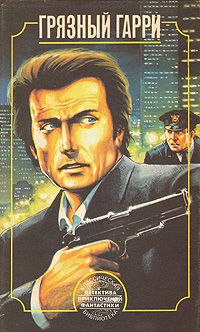
![Филип Рок - Грязный Гарри [другой перевод]](/uploads/posts/books/243304/243304.jpg)