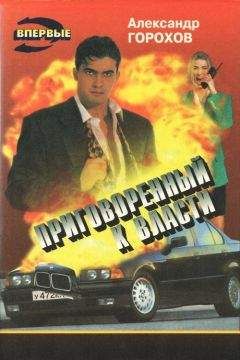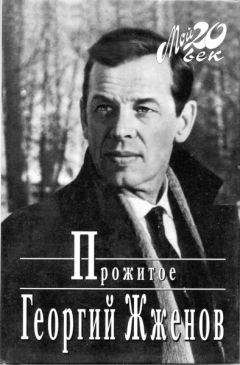Александр Горохов - Приговоренный к власти
Через минуту дверь из кабинета распахнулась, и Топорков, в камуфляжной полевой форме, все такой же подтянутый (лишь заметно поседел) стремительно вошел в приемную. Он смотрел вовсе не на Иванова, а в упор на Лешку — с яростью и обидой.
Иванов встал и проговорил звенящим от напряжения голосом:
— Товарищ генерал-майор! От имени Президента РСФСР и командования республики я предлагаю вам сдать незаконное командование вертолетным соединением либо вернуть его на место обычной дислокации. Вы действуете в нарушение присяги и устава.
— Как я действую — мы еще поговорим, подполковник. Сейчас меня больше интересует, как действуете вы! Ваши документы и представительские бумаги меня устраивает, но почему вас сопровождает самозванец, который даже под собственной фамилией не имеет права на офицерский чин? Как это понимать?
— Не могу знать, товарищ генерал, — без тени смущения ответил Иванов. — Сопровождающий навязан мне в последний момент перед выездом, и я за него отвечать не могу.
— За такие вещи в военное время ему полагается трибунал и расстрел! А сегодняшнюю обстановку можно оценивать как военную. Арестовать его. — Топорков наконец взглянул на Иванова. — И не вздумайте пугать меня, подполковник. На данную минуту законным правительством в стране является Государственный комитет по чрезвычайной ситуации. Слабоумный президент не может осуществлять руководства государством и тем более армией. А другого руководства нет. Я не намерен подчиняться вашим командам, тем не менее — прошу в кабинет.
Караул был вызван, видимо, заранее, из генеральского кабинета, потому что Лешка и оглянуться не успел, как возле него оказались двое нехилых молодцов, а подтянутый и выбритый лейтенант проговорил жестко:
— Арестованный, следуйте за мной.
— Охлопьев, — потерянно позвал было Лешка, но тот лишь взглянул с деланным недоумением и схватился за трубку зазвонившего телефона.
В сопровождении своих караульных Лешка вышел из штаба, до гауптвахты военгородка, все еще тихого и сонного (а может, уж все разбежались?), было всего около сотни шагов.
— Что там в Москве? — негромко спросил по дороге лейтенант.
— Да крышка вам, мужики, крышка. Никто этих тупых уродов, коммунистов дристучих, не поддерживает. Кончилось коммунистическое время, и все их приемчики не сработают.
— Может, кончилось, а может, только начинается, в самую силу входит! — беззаботно рассмеялся лейтенант. — Ладно, обсудишь сейчас эти проблемы с людьми идейными, знающими.
Они уже дошли до приземистого здания гауптвахты, миновали часового у дверей и спустились по ступеням в полуподвал.
— Голышкин, открой камеру, — приказал лейтенант.
Дверь камеры с лязгом распахнулась, и в неверном свете Лешка увидел человек шесть-восемь мужчин, которые тут же вскочили с нар и нестройным хором грянули:
Вставай, проклятьем заклейменный
Весь мир голодных и рабов!
— Принимайте соратника! — крикнул лейтенант и захлопнул за Лешкой двери.
Хор стих. Лешка уже разглядел, что народ был разношерстный и немолодой.
— Здравствуй, товарищ! — шагнул к нему мужчина сутулый до горбатости, с короткими кустистыми бровями и чуть свернутой набок шеей. — Тоже страдаешь за идею?
Он тянул Лешке длинную, скрюченную руку с пальцами, как когти.
Руку эту Лешка невольно пожал, но спросил нерешительно:
— Какую идею?
— Для всех нас, советских людей, идея одна! Мы за нее и кровь проливали, правильно, товарищи?
Горбатый и кривошеий мужчина повернулся к товарищам, и в ответ ему запели дуэтом, высокими надтреснутыми голосами:
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов!
— Подхватили! — закричал горбатый одухотворенно, и все грянули до звона в ушах:
Это есть наш последний
И решительный бой!
Лешка вскочил на нары, вскинул руки, словно Богу молился, и завопил что было сил козлиным голосом:
Боже царя храни!
Сильный державный
Царь православны-ы-ый!
Дальше слов гимна он не знал, да и мотив ему не удался. Но в камере наступила глухая, ошарашивающая тишина.
— Кологривов, — жалобно и тихо сказал горбатому сморщенный старикашка. — А он, кажись, не из наших. Небось белогвардеец или даже монархист. Паря, ты кто? К какой партии относишься?
Лешку охватила неудержимая злость. Вспомнились ему мальчики, которых сейчас, быть может, косят пулеметным огнем у Белого дома, услышал он последний писк Алькиной трубы из-под гусеницы танка — и заорал, как в пустыне:
— Я кто угодно, только не коммунистическая мразь! Вас, старую рухлядь, в дерьме топить надо! Чтобы вы своим смрадом не поганили воздух на земле!
Они бросились на него молча и дружно — без команды. Им и не надо было команды, потому что привыкли подчиняться единому инстинктивному желанию, охватывающему коллективные мозги.
Горбатый Кологривов вскочил на нары, но поначалу Лешке пришлось ударить ногой в ухо мухомору-старикашке, и тот, хрюкнув, отвалился на пол.
Кологривов успел вцепиться в горло Лешке своими жесткими, как клещи, пальцами, и сперва Лешка врезал ему локтем в солнечное сплетение, а когда тот стал падать, успел рубануть его ребром ладони по кривой шее.
Спиной он отпрыгнул в угол, сразу сократив число возможных нападавших до двух, и одного сшиб ударом ноги в живот, а второму сунул в вылупленные глаза два пальца, так что тот взвыл от боли и рухнул.
Остальные оказались трусоваты и слабосильны. И атаку свою заменили диким криком, в котором имели митинговый опыт.
— Сволочь! Белогвардеец! Демократ вонючий, вас сегодня по всему Союзу давят!
— Тихо! — прервал вопли густой голос, и Лешка даже не сразу понял, что это заговорил очнувшийся Кологривов. — Тихо, товарищи. Отставить самосуд. Негодяя будет судить народ. Будем судить мы с вами, после нашей победы.
— Какой победы, кретин?! — засмеялся Лешка. — Вся ваша краснопузая скотина по щелям забилась! Вас, дерьмуков, будут завтра судить, как судили фашистов в Нюрнберге! Крышка вам, я четыре часа как из Москвы, а час назад радио слушал! Конец путчу и вашим уголовным бандитам в Кремле!
Коллектив смотрел на него с недоверчивым подозрением. Кологривов произнес тихо:
— Тогда, господин хороший, мы сами тебя сегодня осудить успеем. Ночь длинная, сон тебя сморит, вот мы тебе и вынесем приговор.
Лешка невольно засмеялся.
— Ну, и жизнь у меня, горбатый политрук! Утром твои друганы под трибунал обещали подвести, да один уже подох, а ночью ты мне могилу обещаешь! Смотри не накликай беды себе на шею, даром что она кривая!
— Я свою шею скривил, пока для тебя коммунизм завоевывал!
— Заткни его себе в задницу! — закричал Лешка. — Нажрался я твоего коммунизма, он мне в хромосомы залез так, что и внуки мои еще от коммунизма блевать будут! Обещаешь сонного придушить? Да я вам до этого сейчас всем руки переломаю, так что душить меня нечем будет!
Он спрыгнул с нар, считая дискуссию законченной, но хилый старик понял его по-своему, решил, что лишится своих рук, а потому ринулся к дверям и принялся бить в них ногами.
— Охрана! Караул! Убивают! Убивают! Советскую власть еще не отменили! На помощь!
В коридоре послышался топот, и двери с лязгом распахнулись.
— Что тут у вас еще, пауки в банке? — грянул басом рослый старшина.
Кологривов выпрямил свою горбину, насколько получилось, ткнул пальцем в Лешку и сказал уверенно:
— За жизнь этого провокатора мы не отвечаем. Уберите его отсюда!
— Не ко двору, что ли, пришелся? Пойдем.
Лешка шагнул к дверям, чуть развернулся в сторону и легким ударом ноги снизу вверх поддел Кологривова под подбородок.
— Привет, пламенный трибун коммуны! — Лешка сделан ему ручкой.
Глаза Кологривова полыхнули из-под густых бровей такой зоологической злобой, что Лешка пожалел о своей выходке.
— Идем! — рявкнул старшина. — Завтра друг друга убивать будете, а сегодня не положено!
Они сделали несколько шагов по сумрачному коридору, старшина открыл дверь, и Лешка оказался в узкой, как пенал, камере, где было тепло и чисто. Лампочки не наблюдалось, а сквозь маленькое окошко под потолком едва просачивался наступающий рассвет.
Дверь за Лешкой захлопнулась. Активное и прямое участие его в исторических событиях, судя по всему, на этом и закончилось. И, что б там ни было, закончилось достойно. Такие вещи не забываются и приравниваются к боевому ранению. Конечно, лучше бы сейчас быть вместе с Алькой, Вово и этой странной шпионкой Ланой. Лучше, веселее и даже безопасней. Но дни после победы определят точно, где было лучше — на баррикадах Белого дома или здесь, в заточении. Определится и главное — от кого в конечном счете было больше пользы.