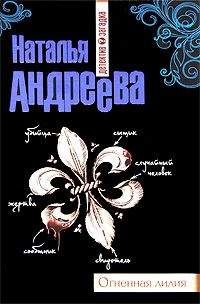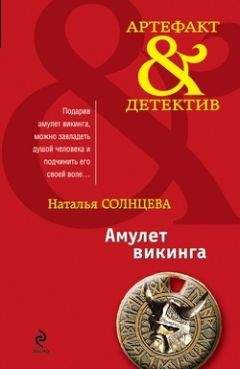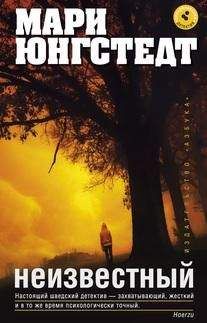Филлис Джеймс - Взгляд на убийство
Девушка без смущения посмотрела на Далглиша, спустила ноги с кровати и улыбнулась ему с явным удовольствием, почти радушно, но без кокетства.
— Хотите выпить чаю? — спросила она.
— Полицейские никогда ничего не пьют на службе, включая чай, — сказал Нагль. — Ты, ребенок, лучше оденься. Мы не должны шокировать старшего инспектора.
Девушка снова улыбнулась, собрала одной рукой свою одежду, в другую взяла чайный поднос и направилась к двери в дальнем конце студии. Трудно было узнать в этой доверчивой чувственной фигурке заплаканного испуганного ребенка, каким Далглиш увидел ее впервые в клинике Стина. Он наблюдал за тем, как девушка шла. На ней не было совершенно ничего, кроме халата Нагля. Твердые соски виднелись через тонкую шерсть. Далглиш сделал вывод, что они занимались любовью. Когда Придди скрылась из виду, он повернулся к Наглю и увидел в его глазах мимолетный отблеск недавних развлечений. Но ни тот, ни другой ничего об этом не сказали.
Далглиш обошел студию, Нагль наблюдал за ним с кровати. В комнате не было беспорядка. При виде этой почти навязчивой аккуратности Далглиш почему-то вспомнил квартиру Энид Болам, с которой это жилище в других отношениях не имело ничего общего. Помост с простой деревянной кроватью, стул и маленький стол явно служили спальней. Остальная часть студии была занята принадлежностями художника, но это не было беспорядочной путаницей, с которой непосвященные ассоциируют жизнь художника. С полдюжины больших картин, написанных маслом, были расставлены у южной стены, и Далглиш поразился их выразительности. Здесь не было любительского любования доставшимся маленьким талантом. Мисс Придди, очевидно, служила Наглю только моделью. Ее девичье тело с тяжелой грудью предстало перед ним в разнообразных позах, здесь — в сокращенном ракурсе, там — необычайно растянутым, будто художник упивался своим техническим мастерством. Большинство недавно написанных картин стояли на мольбертах. На одной была изображена девушка, сидящая, расставив ноги, на табурете, с детскими руками, бесцеремонно висящими между бедер, груди выступают вперед. В этом стремлении выставить напоказ технические возможности в дерзком использовании зеленых и розово-лиловых цветов, в точной тональности было что-то родственное с тем, что удерживала память Далглиша.
— У кого вы учились? — спросил он. — У Сэджа?
— Совершенно верно. — Нагль, казалось, не удивился вопросу. — Вы знаете его работы?
— У меня есть одна из его ранних картин, написанная маслом. Обнаженная фигура.
— Вы сделали хорошее приобретение. Выставите ее.
— Я все намереваюсь это сделать, — сказал мягко Далглиш. — Надеюсь, что это произойдет. Вы долго у него занимались?
— Два года. Конечно, только часть времени проводил в мастерской. Хочу поучиться у него еще три года. Разумеется, если Он еще будет способен учить. Мэтр теперь одряхлел, как старая собака, и к тому же слишком любит собственные работы.
— Вы стараетесь немного подражать ему, — сказал Далглиш.
— Вы так считаете? — Нагль, казалось, не был оскорблен. — Это любопытно. Из этих пут надо выбираться. Самое позднее в конце месяца я отправляюсь в Париж. Я обратился к Боллинджеру с просьбой о стипендии. Старик замолвит за меня словечко, на этой неделе я получил письмо, где он говорит, что сделает это.
Как Далглиш ни старался, не смог уловить нотку триумфа в его голосе. Радость Нагля была прикрыта маской безразличия, хотя у него была причина любоваться собой. Стипендия Боллинджера — это не какой-то ординарный приз. Это, как знал Далглиш, два года в европейском городе с щедрым содержанием и свободная студенческая жизнь или работа, по усмотрению стипендиата. Путь к своему, теперь такому завидному положению Боллинджер начал как владелец фабрики, изготовлявшей патентованные медицинские препараты, это принесло ему богатство и успех, но не дало удовлетворения. Он получал деньги от продажи желудочных порошков, но сердце принадлежало живописи. Его собственный талант был небольшим, и, судя по коллекции полотен, которую он завещал растерянным попечителям местной картинной галереи, вкус равнялся его таланту. Но стипендия Боллинджера гарантировала, что художники будут вспоминать его с благодарностью. Боллинджер не верил в процветание настоящего искусства в бедности и в то, что художников стимулировали их напряженные усилия в холодной мансарде при пустом желудке. В молодости он сам был беден и не получал удовольствий от этого. Много путешествовал в старческом возрасте и за границей был счастлив. Стипендия Боллинджера давала возможность молодым художникам получать удовольствие от второго без претерпевания первого, и это было стоящим выигрышем. Если Наглю решили дать стипендию Боллинджера, едва ли его трогают теперешние тревоги клиники Стина.
— Когда вы должны отправиться в путь? — спросил Далглиш.
— Когда захочу. В конце месяца, скорее всего. Вообще-то, есть большое желание уехать пораньше, а не ждать, пока оформят увольнение. Нет никакого смысла задерживаться. — Говоря это, Нагль резко повернул голову к дальней двери и добавил: — Вот почему это убийство вызывает у меня такую досаду. Я боюсь, оно может стать причиной задержки. Ведь как-никак там была моя стамеска. И это не единственное, что впутывает меня в дело. Когда я находился в главной канцелярии, ожидая почту, кто-то позвонил и сказал, чтобы я спустился вниз за бельем для прачечной. Было похоже, что звонила женщина. Я уже был одет в пальто и собирался выходить, поэтому сказал, что заберу белье по возвращении.
— Вот почему вы зашли к медсестре Болам после вашего возвращения с почты и спросили ее, не готово ли белье?
— Совершенно верно.
— Почему вы не сказали ей о телефонном звонке перед вашим уходом?
— Не знаю. Я не думал, что это имеет какое-то значение. Меня не очень привлекает болтаться около процедурной ЛСД. У меня по спине начинают бегать мурашки от стонов и ворчания больных. Когда медсестра Болам сказала, что белье не готово, я подумал, что звонила мне мисс Болам и просто не назвала себя. Она имела привычку вмешиваться в выполнение медсестрами своих обязанностей, по крайней мере, они так считали. Во всяком случае, я ничего не сказал о звонке. Мог это сделать, но не сделал.
— И вы не сказали об этом также мне, когда я допрашивал вас первый раз.
— Опять-таки совершенно верно. Истина в том, что все это обрушилось на меня и я хотел иметь время подумать! Но, пока я обдумывал, вы вызвали меня к себе, и это выскочило из головы, тем более что вы сочувственно восприняли мой рассказ. Вы можете верить мне или не верить, как вам угодно. Мне все равно.
— Вы, как ни странно, слишком спокойны для человека, который в самом деле верит, что кто-то пытался впутать его в дело с убийством.
— А что мне беспокоиться? Они не добились успеха ни в одном, ни в другом, и я верю, что шансы обвинить невиновного человека в этой стране практически равны нулю. Вам следовало бы считаться с этим. С другой стороны — взять систему присяжных, — шансы виновного избежать наказания высоки. Вот почему я не думаю, что вы раскроете убийство. Слишком много подозреваемых. Слишком много различных версий.
— Мы это видим. Расскажите мне подробней об этом звонке. Когда вы точно сняли телефонную трубку?
— Я не могу вспомнить. Минут за пять до того, как Шортхауз вышла в главную канцелярию, думаю так. Может быть, раньше. Может, Дженни помнит?
— Я спрошу ее об этом, когда она вернется. Что точно вам сказали?
— Дословно так: «Белье готово, зайдите, пожалуйста, за ним». Я подумал, что это звонит медсестра Болам. Ответил, что я уже ухожу с почтой и зайду, когда вернусь. Прежде чем она успела возразить, я положил трубку.
— Вы были уверены, что это звонила медсестра Болам?
— Уверен, но не совсем. Я, разумеется, подумал о ней, потому что медсестра Болам как раз в это время обычно звонит о белье. Суть в том, что женские голоса похожи, потому мог позвонить кто-то другой, но я не разобрал кто.
— Но это был именно женский голос?
— О да. Это была женщина.
— В определенной степени это ложное сообщение, так как мы знаем, что фактически белье не было рассортировано.
— Да. Но о чем это говорит?. О том, что не все стыкуется. Если меня хотели заманить вниз, в подвал, чтобы создать ложное обвинение, убийца рисковал, так как я мог появиться в самый неподходящий момент. Медсестра Болам, например, не стала бы спрашивать меня о белье, если бы собиралась идти в регистратуру, где прохлаждалась ее кузина. Если лее мисс Болам умерла раньше, то звонок вообще не имеет никакого смысла. Предполагали, что я стал бы вынюхивать вокруг и наткнулся бы на тело? Но убийца не мог хотеть, чтобы его обнаружили слишком быстро. Так или иначе, но я не спускался в подвал, пока не вернулся с почты. К счастью, меня в клинике не было. Почтовый ящик находится недалеко, через улицу, но я обычно спускаюсь вниз на Бифстик-стрит купить в киоске «Стандарт». Продавец, вероятно, помнит меня.