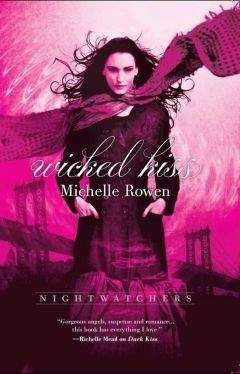Джулия Хиберлин - Тайны прошлого
Розалина быстро развеяла мои сентиментальные мысли.
— В ней палец моей дочери.
И не было слов в английском языке, чтобы ответить на это. По крайней мере, я таких слов не нашла.
— Осторожно, не урони! — Розалина подхватила коробочку, чтобы та не упала. Моя рука, похоже, снова отказывалась работать.
— Ты что, в обморок собралась? Ай, диос мио, только не это! — На самом деле я не собиралась терять сознание. Я просто нагнулась за бутылкой холодной воды, стоявшей в ведерке со льдом у стола, и прижала ее к щеке.
— Прости, Томми, — сказала она. — Не стоило мне так тебя шокировать. — А затем: — Он мумифицировался.
Как будто от этого все становилось лучше.
Отчаянно пытаясь не потерять меня, она затрещала:
— Копы отдали мне его много лет назад, через шесть месяцев после того, как похититель его прислал. Сказали, что я могу похоронить этот палец вместо нее. Что она мертва, и мне нужно смириться с этим.
— Они сделали тест на ДНК? — Я слышала свой голос, спокойный и логичный. Невидимая часть меня разгуливала между кустиками мексиканского шалфея, отвлеченно наблюдая за нашим безумным чаепитием. Краем сознания я удивилась тому, что садовник сумел вырастить эти кусты в Чикаго. Я почти ощущала щекой прикосновение листьев.
— Нет, — ответила Розалина. — В те времена редко делали подобную экспертизу. Они, похоже, поверили, что это она. И, честно говоря, я никогда не хотела узнать это наверняка. До сих пор. Я старею. Мне осталось не так уж много.
Коробочка лежала на столе между нами, своим красным бархатом напоминая мне красный плащ из «Списка Шиндлера». Единственное пятно цвета в мире, который сошел с ума. Красный цвет шарфа, который Энтони Марчетти сделал своим фирменным знаком. Я вынула из ведерка кубик льда и провела им по шее. Я очень старалась не дать воли своему воображению и не представлять, как может выглядеть детский палец, отрезанный тридцать один год назад.
— И что, по-вашему, я могу с этим сделать? Насколько я поняла, вы нанимали детективов расследовать дело Адрианы.
— Все, что считаешь нужным, — ответила Розалина. — Ты ведь дочь, которой у меня никогда не было.
Последняя загадочная фраза.
Дневной свет уже уходил, и теперь Розалина оказалась в тени дерева — на поверхность вынырнула Алая Роза. Во время нашего разговора она забыла про свой «итальянский» акцент. И теперь говорила, как та, кем она когда-то являлась, как мексиканка-бунтарка, которая шла против моральных устоев, когда те начинали давить на нее. Отчаянье расходилось от нее волнами. И теперь я видела границы ее голубых линз. Они не могли скрыть страдания, которое поселилось в ее глазах. Я уже видела такие глаза раньше — такими глазами смотрела перед собой моя мама на похоронах Така.
Усилием воли я заставила себя взять коробочку. Я справлюсь. Возможно, я прожила всю жизнь, чтобы оказаться именно здесь, посреди джунглей Розалины, оплетенных виноградными лозами и чувством вины. Возможно, все мои исследования, все, что я постепенно узнавала о детских травмах, было лишь подготовкой к этому моменту. Возможно, мне суждено найти Адриану. Возможно, она еще жива и знает ответы на все вопросы.
Я думала об этом, одновременно осознавая, кто такая Розалина Марчетти. Гениальный манипулятор и патологическая лгунья.
Я задала еще один вопрос, чтобы ее проверить.
— Когда вы обняли меня на террасе, вы же искали на мне микрофон?
— Конечно, — ответила Розалина. — Всегда лучше подстраховаться.
Глава 18
Я подставила спину тугим струям шикарного водного массажа в душе отеля. Мы с Розалиной расстались на вполне приемлемой ноте, учитывая все обстоятельства, — не врагами и не друзьями.
Она, похоже, была довольна тем, что я хотя бы поговорю с Марчетти. Я ничего не обещала по поводу пальца, но уложила его в сумочку, даже не думая о том, чтобы открыть коробку, по крайней мере пока, и уж точно не у нее на глазах.
Розалина позволила мне покинуть свои владения по вьющейся тропинке, куда менее драматично, чем обустроила мой вход. Я опоздала на две минуты, но таксист ждал.
Несмотря на кажущуюся лживость, детали в рассказах Джека и Розалины сходились так четко, что это невозможно было игнорировать. Я повернулась и подставила лицо напору горячей воды, мысленно возвращаясь к Сэди и нашему вчерашнему разговору в больнице.
Я отправилась туда проведать маму, но на самом деле мне нужна была поддержка Сэди — перед поездкой в Чикаго мне нужно было, чтобы младшая сестричка уверила меня, что все будет хорошо. Мы сидели в кабинке больничного кафетерия, пили черный кофе, налитый со дна графина, и пытались справиться с куском сухого лимонного пирога, который спасали лишь капельки белого крема.
И я рассказала ей обо всем: о моем тюремном свидании с Энтони Марчетти, о подробностях нераскрытого убийства Дженнифер Куган, о маленькой девочке с моим номером социального страхования, похороненной в Чикаго, о фотографии Алисы Беннет, убитой вместе со всей семьей во время мафиозных разборок тридцать лет назад, о почти смешных предупреждениях от писклявой убийцы собственного мужа, ждущей приговора суда. Поделилась подозрениями о том, что Джек Смит вовсе не тот, кем притворяется.
— Три маленькие девочки, — задумчиво сказала Сэди, расплющивая вилкой последние крошки пирога. — Если считать пропавшую дочь Розалины.
С этой точки зрения я на историю не смотрела. А Сэди всегда умела слегка повернуть конструкцию, чтобы мой взгляд уперся в недостающее.
Ее длинные ноги были вытянуты в проход. На ней была тугая белая футболка, джинсы с низкой посадкой, перехваченные кожаным ремнем в стиле вестерн; коричневые шлепанцы, розовый лак на ногтях ступней, маргаритки на нем — творчество Мэдди. Серебряные серьги-колечки, весь макияж — лишь тонкая подводка, коротко стриженые волосы, которые она то и дело лохматила пальцами, усталые голубые глаза… И все же парень, протиравший пол через два столика от нас, не мог отвести от нее глаз.
Она завораживала. Возможно, таково проклятие всех женщин МакКлауд, или проклятие тех, кто с нами когда-либо пересекался.
А позже на приподнятой градусов на сорок больничной койке между нами неподвижно лежала мама, накачанная лекарствами. Капельница тихонько снабжала ее полезными веществами, а линии на кардиомониторе топорщились знакомым рисунком. Она была слишком молода для такого финала. Некоторым людям суждено прожить самую значимую часть жизни за краткий, очень насыщенный отрезок времени. Возможно, мама была из таких людей. Возможно, думала я, она прожила ту самую часть своей жизни еще до того, как я родилась.
— Поверить не могу, что она нам столько врала, — сказала я Сэди, нарушив давящую тишину. — И папа тоже.
Я ждала от нее сочувствия. Не дождалась.
— А почему нет? — спросила сестра. — Ты всегда думала, что мама у нас идеальная. И детство у нас идеальное. Ты просто не хотела замечать ничего другого. Мама неплохо притворялась, но она так никогда и не оправилась после смерти Такера. Никогда.
Сэди поправила мамино покрывало в третий раз после нашего возвращения в палату.
— После того как ты уехала в колледж, я много раз видела, как она в одиночестве смотрит на его фотографию, сделанную во время бейсбольного матча в школе. Она хранила ее в коробке под кроватью. В тот год они с папой официально разошлись по разным спальням, хотя я думаю, что к тому времени они уже много лет не спали вместе. Он любил ее, но не мог до нее достучаться. Никто из нас не мог.
— Я не могла, — сказала я, думая о том, как умудрилась пропустить такую пропасть в отношениях моей семьи — меня же учили замечать и исправлять это.
Пока Сэди взбивала подушку, я вспомнила, как сидела с мамой за пианино. Жаркий день. Мои маленькие пальцы вспотели на клавишах. Я все играла Си-бемоль мажор вместо минора. И делала это специально: я злилась, что мама не разрешила мне покататься с Таком.
А потом услышала знакомые тяжелые прыжки: Так спускался по лестнице. Он перепрыгнул последние три ступеньки — солнечные очки на голове, широкая улыбка, весь готов к побегу. Сорвиголова, как часто говорила мама. Но я всегда думала, что он обычный мальчишка.
Брат дернул меня за «хвостик».
— Минор, а не мажор, Томми.
— Спасибо, — ехидно отозвалась я.
— Не задерживайся, — попросила его мама. — У меня один из тех дней.
И что-то непроизносимое и печальное проскочило между ними двоими.
Слова были маминым лассо, которое она бросала без промаха. Они всегда ловили тебя на взлете и сжимали горло чуть сильнее, чем надо. И ты никогда не знал, в какой момент она возьмется за веревку. На этот раз, с Таком, мама промахнулась. Он и его конь не возвращались до самой полуночи. Еще три дня напряжение в доме было таким звенящим и тяжелым, что я вообще не говорила, опасаясь, что одно слово — и все мы взорвемся вместе с домом.