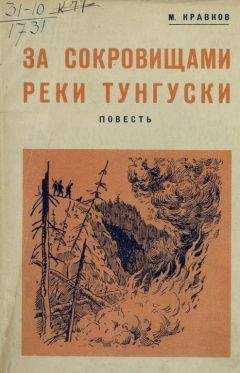Максимилиан Кравков - Ассирийская рукопись
— Не может быть наводнения. Просто взбухла от дождя речонка. Вы предупреждаете события.
Это обозлило меня, и я настойчиво тащу его к берегу. Шум необычный, бурливый. Узнать нельзя реку. Пенной, волнистой дорогой несется на кривляке[5] — изгибается бороздой. Прижала береговую воду: та вспухла и тяжелой, светло-желтой гладью зыбится в стороны, морщась водоворотами. С берега рухнула подмытая тополина, там бурун хлещет вверх искривленным фонтаном, словно чья-то рука беспрерывно цапает из глубины...
Притихший возвращался Андрей Иваныч к юрте, на меня смотрел подозрительно, точно я в заговоре с природой.
К вечеру разразилась гроза. С оглушительным треском подламывающегося дерева обрушиваются громовые удары. Сижу в юрте у теплого костерка, починяю бредень, а дождь барабанит частой дробью в берестяные стенки. Андрей Иваныч лежит, кутается в прожженный азям и вздрагивает при ударах грома. Порой мне кажется, что мой спутник сходит с ума, и тогда мне становится страшно. Ночью я проснулся от странного предчувствия беды, вышел в туман, где-то близко шумела вода. Я понял, что Гутар разливается. Наша лодка, зачаленная в заливчик, полузатоплена дождем и дергается на непрочном причале. Привязал ее крепко возовой веревкой, вычерпал воду и решил идти спать. Утро вечера мудренее.
Белый рассвет. Пологи тумана подымаются от воды и висят слоями. Я удивился: горел подновленный костер, закипал наш чайник, а Андрей Иваныч старательно укладывал в мешок какие-то тряпки. Обернулся, взглянул на меня испытующе остро и недоверчиво спросил:
— Чего вы смотрите?
Я пожал плечом.
— Ничего.
Худо день начинать с ссоры. Вышел из дверки — вода в двух аршинах от юрты. Полная перемена за ночь. Сзади нас, по промоине, вода меньшей речки затопила лес, слилась с Гутаром, и теперь мы ютились на острове, окруженные двумя бешено несущимися стремнинами. Если сорваться с нашего берега, то не выплывешь. Понесет к кривляку скалистого мыса, а оттуда весь бой на залом[6], словно кружевом опененный белым прибоем. Черные коряги проплывают мимо целым стадом торчащих клешнями уродин: где-то разворотило залом. Начинает, видимо, размывать берега, потащило свежие, вырванные с корнем деревья. Грузно качаясь, плывет громадная ель с раскидистою высокорью[7] и похожа на корму уходящего парусного корабля. Вот на середине реки, точно запнулась, она тонет корнями, торчмя поднимается громадный ствол и тут же исчезает в бурном водовороте. Есть своеобразная торжественность в этой дикой игре стихии, и душа настраивается по-особенному, как-то твердо. Долго сидел я и думал, потом направился к юрте. Андрея Иваныча не было, и юрта показалась мне уютнее. Чайник висел над потухшим костром, место Андрея Иваныча опустело, и только дробовик валялся странно, поперек его постели. Сперва я не обратил на это внимания и стал раздувать приглохший костер, когда характерный удар шеста о гальку заставил меня прислушаться. Секунда — и я выскочил из юрты. Покачиваясь и кружа, медленно отходила от берега отвязанная лодка. На корме с шестом, без шапки, стоял Андрей Иваныч и насмешливо и победно смотрел на меня.
— Что вы делаете? — в ужасе закричал я.
В этот момент течение схватило лодку, резко повернуло бортом, Андрей Иваныч присел на корму и, ища меня дикими глазами, захохотал...
Перышком закружилась лодка в желтых волнах и стремительно понеслась к середине. Сумасшедший махает шестом, хочет поставить вразрез на волну — не справляется. Я рычу от душевной боли, не могу оторваться — смотрю. Быстрей и быстрей сближается лодка с буруном. Человек вскочил во весь рост, дыбом взлетает лодка, и оба скрываются в ревущей пене... Я невольно вскрикнул и сел, точно раненый.
Очень холодны сделались зори, утром подолгу стоят туманы, и земля опушается иглами инея. После смерти Андрея Иваныча я опять поселился в избушке, питался охотой, ягодой и кедровыми шишками, не мог только ловить рыбы, потому что лодка вместе с сетью погибла. Великое одиночество охватило меня, и как-будто прибавилось мне еще свободы, и песчинкою потерялся я в необъятном просторе тайги и гор. Я даже вслух разговаривал вначале, обращаясь к деревьям, к реке, к себе самому. Даже теперь еще иногда рассуждаю громко, но уже потерялась прежняя моя безмятежность, и я начал чего-то ждать.
Звери оделись новою шерстью, подросли и окрепли их детеныши и чаще начали спускаться с хребтов — к реке. Подавались сверху разжиревшие гуси, сбивались в стаи, и сырыми ночами, когда еле краплет дождик, я слушал их дружное гоготание. Поспели кедровые шишки, валился лист с берез и осин, и горные цепи на юге покрылись снегом. Чувствовал я, как растет во мне инстинкт перелетной птицы, но ждал какого-то срока.
В это же утро, крепкое от мороза, яркое солнечным блеском, я проснулся с готовым решением. Пора уходить. Не надежна была прозрачная ласковость неба, и солнце грело уже мимоходом, коротко, и во всем было разлито ожидание перелома. Нелегко было выбраться из пустыни, да, пожалуй, и не совсем хотелось, но выбора не было, потому что остаться здесь — значило погибнуть. Я старательно вспомнил наказы Максима о способах возвращения, какие он давал мне.
Рекой мне спускаться было нельзя: на плотке я не проплыл бы порогов. Оставалась дорога хребтами по старому тесу[8], который был сделан одним соболятником много лет назад. Верст через пятьдесят этот тес приводил к избушке, посещаемой охотниками, и в ней, по уверению Максима, еще с прошлого года хранился запас сухарей и соли — и, конечно, были порох и дробь. Эта изба будет первой моей остановкой. Дальше идти уже легче, чаще начнут попадаться зимовья, и я, несомненно, наткнусь на кого-нибудь из промышленников. Что же ждет меня там, у людей? Много могло перемен случиться. Может, нет уже ни чехов, ни колчаковцев, может быть, там, за тайгой, уже новая жизнь? Я жмурил глаза, солнце грело мне веки, а я представлял себе площадь пространную, немного знакомую, окаймленную на горизонте силуэтами зданий. Отовсюду, от крайней дали, сошлися к центру толпы народу, неисчислимые, нераздельные. В центре простой гранитный обелиск, а на нем, превыше всего, кидается волнами по ветру огненно-красное знамя. Так я мечтал о новой жизни. В последний раз зажигаю сейчас костерок и вешаю чайник, через час ухожу...
Ждет тайга, готовая вздрогнуть мохнатыми лапами. Бездонная пустота надо мной затягивается медленно, первый снежок равнодушно светится пышной роскошью белизны.
Грузно сел на горелую деревину, рядом сунул винтовку и голову уронил на руки — вниз, к коленам. Волна безмерного наслаждения отдыхом заливает тело.
И сейчас же — мысль, тоскливо рвущая душу. Не хочу признавать ее, но уже верю ей внутренне.
Я заблудился. Весь вчерашний день держался заросшей тропы, разбираясь в оплывших затесах. Ночью выпал неожиданно снег, метки на деревьях пошли неразборчивые, и я потерял направление.
И как тихо, предательски незаметно, подкралась зима. Еще днем вчера была осень и лес был залит в звенящий хрусталь синеватой прохлады. Еще днем вчера золотыми фонтанами били к солнцу неосыпавшиеся березки и малиновым бархатом одевались осины, покрасневшие от утренников. А сегодня — волшебный блеск рассыпавшегося холода и стволы деревьев — почерневшие и обособившиеся один от другого.
Тончайшие звоны кристаллов рождаются в напряженном слухе, эфирные пузырьки голубого воздуха проплывают в глазах. Мягким шорохом оживает вверху пустота.
Я вздернул голову — снег. Вскочил тревожно.
Потом привычно поднял тяжелое ружье и шагнул назад, туда, где мой прежний след взбороздил тропою снежную мякоть.
Звеньями цепи спускались следы в ложбинку, взбирались бугром и вползали в ворота двух гигантских елей, расшатнувшихся вправо и влево. Спешили ноги, словно упустить боялись моменты длившейся тишины, за которой наступит то страшное, что накроет саваном холода последнюю надежду.
Я же боялся дать волю просыпавшемуся инстинкту, когда люди теряют способность оценивать и охватываются безумием. Сейчас я решил по следам возвратиться к месту вчерашней ночевки, повторить извилистый путь дневной дороги. Мои спички отпотели, коробка раздавлена, и черные головки хрупко рассыпаются, сдирая намокшую бумагу. А час тому назад я окончил последний сухарь и, конечно, не обманул свой голод.
Будет метель. Чаще крестят снежинки туманные глубины леса, пухнут белые колокола на обугленных пнях, шубкою лебяжьей одеваются плечи изящной елочки.
Вдруг какая-то мысль поражает меня. Я останавливаюсь, всматриваюсь и вижу ясно, совершенно отчетливо, что следы мои засыпает. Тороплюсь, бегу, подгоняемый страшной борьбою за жизнь, задохнувшись, хватаюсь за дугу изогнувшейся березки, чтобы не упасть.
Деревцо вздрагивает пугливо и роняет кисею бриллиантовых слезок.