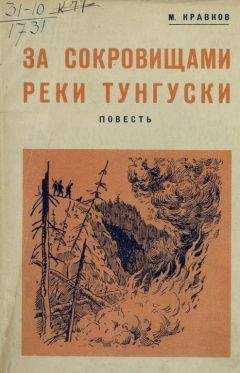Максимилиан Кравков - Ассирийская рукопись
Я вспоминаю, что недавно, охотясь за рябчиками, Андрей Иваныч увидел медведя и с тех пор далеко от избушки не ходит. Этого не говорю, а только ожесточенно рублю теслой колоду, выколупывая сочные смолистые щепки.
— Знаете что, — предлагаю я, — место здесь надоело и вам, и мне. Давайте спустимся к устью Гутара, там на стрелке сохранилась хорошая юрта. Рыбы в том месте больше да, пожалуй, и зверь попадается чаще.
Андрей Иваныч выдерживает марку: презрительно пожимает плечами.
— Не все ли равно, — бормочет он, — здесь или на устье, — один черт!
Но он, несомненно, рад. Это его давнишнее желание. Я же дорожил избушкой на случай непогоды. Поздно ночью кончаю последние приготовления к завтрашнему отплытию. Голодно от плохой и скудной пищи, шатает меня усталость, и, завертываясь в шинель, я ложусь у костра, под открытым небом. Укутанные темными чехлами хвои, молчат высокие деревья, и брызгами брильянтов искрятся в черных прогалах звезды.
Мы почти не говорим друг с другом. Когда Андрей Иваныч спит, а я смотрю на лицо его, мученически изможденное, с ввалившимися щеками, — я забываю дневную злобу, и мне становится страшно, точно я присутствую при медленном умирании самоубийцы. Мне тоже плохо, я сильно истощен. У меня, вероятно, кровь приливает к ногам, и от этого они стали какие-то спотыкливые и тяжелые. Непонятная лень овладевает порой, и долго стоишь перед лесной колодиной, не решаясь перешагнуть ее. Голод выгнал меня сейчас на добычу. Недалеко от юрты я нашел спокойную таежную речку, причалил к мыску у группы березок и вылез с винтовкой. День серый, тихо — парит. С того берега кликнет раза два птичка, и опять все молчит. Ровно течет плескучий шорох реки, но так однотонен он и непрерывен, что вливается в тишину и растворяется в ней. Злой и страстный кипит вокруг комариный звон и клекчет на дереве бурундук, накликает непогоду. Свежий след. Трава примята, глубоко впечатались в слабую почву копыта. Забыл усталость, смотрю — соображаю. Ходил сохатый. Совсем недавно. Сегодня ночью. Мелкое дно залива порастает вахтой, солоноватою водорослью, и все оно истоптано ямками, затянутыми мутным илом. Зверь приходит ночью кормиться водорослями. Буду караулить его из последних сил. Три березы растут букетом. Я рублю жердины, прибиваю их гвоздями к березам аршина на четыре от земли. Кладу между ними перекладины, маскирую ветвями — и готов помост или лабаз, моя ночная засада. Сюда я вечером заберусь и буду ждать сохатого, потому что в нем — спасение.
Долго я спал у юрты. А когда проснулся, был уже вечер. Облака разошлись, и светило ярко солнце. Андрей Иваныч готовил чай без меня, даже не разбудил и куда-то ушел. Я тороплюсь. Протер заржавевшую винтовку, налил в пузырек дегтя от комаров и взял на дорогу горсточку сухарей.
Страшно мне смотреть в сухарный мешок — там останутся скоро одни лишь крошки... Андрей Иваныч не хочет мириться с порцией: «Как же, — возмущается он, — и так жрать нечего, а тут еще и сухарей не досыта». Я махнул на него рукой — будь, что будет.
Неслышно спускаюсь в лодке, журчит река, сидишь на корме и отдыхаешь. Век бы так плыл навстречу бодрящему ветерку. Я рано добрался до места: еще солнце греет. Спрятал лодку в кустах и осторожно, стараясь не делать в сторону шага, по дневным следам своим, я дошел до берез. Закинул наверх шинель и полез с берданкой. Славный вышел лабаз — широко видно с устланной листьями платформы. Приладился во все стороны: чтобы целиться было удобно, чтобы не шуршали ветки закрадки. Осмотрел ружье, взвел курок и поставил на предохранитель. Наверху не так много комаров, а все-таки приходится и лицо и руки смазать дегтем. Передать невозможно, как здесь хорошо, как легко дышать этим воздухом, в котором запах смолы слился с свежестью водяной прохлады. Через реку напротив обрывистый берег. Словно каменные гигантские фолианты, косо стиснутые в полки, выступили меж деревьев бело-ржавые плиты. Справа от лабаза старый, догнивающий лом, слева длинная тихая заводь, языком стеклянным уползающая под своды елей. В этот затон и приходят звери. Будет ли ночью удача? Где он сейчас, тот сохатый, который должен прийти и накормить нас собою? А вдруг придет — и я промахнусь?.. Нет, добрый дух затонов и курьей поможет нам! Он дает промышленникам ленков и зверей. Сам обитает в глухой курье под дряхлым ломом и похож на бревно, користое, как спина крокодила, без ног и без рук, с усатой головою выдры. Может быть, и живет-то здесь, в этом завале облупленных старых деревьев, белеющих на солнце. С того берега смотрится в затон шишковатый, лысеющий хребет. Нет добра и нет зла, бесстрастно говорят его молчаливые сыновья-деревья и спокойно гибнут от времени, заменяясь другими.
Село солнце, сумерки вместе с туманным паром закрывают берег. Теснее сошлись деревья, нахмурились, почернели. Вдали монотонно воркует голубь. Где-то рядом всплеснула и четко закрякала утка. Тишина. Пахнет водой и болотом.
Понемногу начинает клонить ко сну. Я жую сухари, стараясь хрустеть потише, жую и слушаю. Узкой сделалась речка, одна серебристая полоса отражает зарю, остальное потоплено мраком, и черной башней стоит перед лабазом купа деревьев. Интересно, что было на этом месте несколько веков назад, в такой же вечер? Я знаю — здесь, на столетней елке сидел зелено-серый и рыжий черт моховик. А под елью был камень, белый, как сахар, и ушел он глубоко в изумрудно-зеленую реку. Выплыла к камню речная красавица, по пояс оперлась на скалу и стояла в воде, и лукаво смотрела на черта, лукаво и ищуще. Кровь загорелась в черте, озорник и охотник поймать захотел... и стало спускаться чудище с ели. Прыгнул на камень, а красавицы нет, и только мертвым, стеклянным глазом смотрит из речки тайменья морда. Заскучал моховик и поплелся в тоске по берегу, брякая копытами о гальку...
Я проснулся, словно, толкнул меня кто. Ясно слышно, как бредут по воде и шуркают в гальке копыта. Остановятся, снова переступят, поплескивая. Несомненно — сохатый! Не дышу, тихо-тихо подымаю холодную берданку, оттягиваю предохранитель. Забулькало, заплескалось где-то близко, за черными кустами. Умолкло. За хребтом, в сиреневой полянке неба, бледно-блестящий круг луны. Кружевные пятнышки облаков дрожат на диске, и луна от этого стала какой-то тревожной. Неужели уйдет? Опять зашумело, передвинулось ближе. Булькает рядом. Верно, вытянул голову из воды и слушает. Журчат и стекают с морды струйки. Фыркнул, как лошадь, опять переступил. Темная купа деревьев, мутная вода под ней и неясная тень, словно выдвинувшаяся передо мной. Ничего определенного не вижу, только боюсь этой длящейся тишины и невольно прицеливаюсь. Мушки не видно, ствола не видно. Только яснее заметна черная тень. Поправил ружье. Он или нет? А если уйдет? Жму ровнее ружейный спуск. Огненным громом разорвался выстрел. Шумно метнулось перепуганное чудовище, и, наискось передо мной, длинно растягиваясь, бросился через воду сохатый. Я втолкнул еще патрон, и в момент, когда зверь скрывался в темном береге, грохнул вторичный выстрел, далеко разбрызгав красные искры. Затрещало на берегу и умолкло. Промахнулся? И этого не знаю: темнота укрыла и надежды, и разочарования. Только бы хватило терпения досидеть до зари. Я на тысячу ладов перебирал все возможности. То упрекал себя за чрезмерную горячность: зачем выстрелил куда-то в темноту, то успокаивал мыслью, что зверь, может быть, ранен, может быть, даже упал где-нибудь недалеко.
Медленно светлело небо, шире становились полосы блестящей воды, выделялись ясней контуры берегов. Проступил на небе темный хребет — невеселое небо, без солнца, все задернуто серой мутью. Совсем рассвело. На плоской отмели, перед зарослью тальника, теперь уже заметны с лабаза черные следы на грязи — туда убежал сохатый. Я почти не сомневаюсь в неудаче. Спускаюсь все же с помоста, бреду по мокрой траве и отвязываю лодку. Здесь вот широким «маховым» следом вынесся зверь на берег. Смотрю на песке — крови нет. След уходит в кусты.
Я раздвигаю густые ветви, и передо мною длинной и серой массой лежит на полянке убитый сохатый...
Вот уже два дня, как едим мясо, целых два дня, как идет наш пир голодных дикарей. Ожил и Андрей Иваныч, стал веселей, сам работы ищет, да все невпопад. И два дня, как навис над нами упорный дождь, мелкий и обкладной. Временами стихает, тогда я выхожу из юрты и напрасно ищу просвета в горизонте, а набухшие, черные деревья редко плачут крупными каплями. Неприветливо все и пропитано сыростью. Наша юрта приютилась на стрелке двух речек, на самом конце узкого полуострова. И по меньшей речке еще утром начала подниматься вода. Сейчас она сделалась желтая, как весенние ручьи на мостовой, затопляет песчаные косы, несется широким потоком. Там, где слился Гутар с меньшей рекой, получилась двуцветная лента: желтая и чистая, глубоко-синяя. А в Гутаре вода мутнеет и прибывает. Я слышал о местных наводнениях, об их опустошительной силе, и зову на совет Андрея Иваныча. Откликается он из юрты охотно, менее охотно выходит оттуда и сразу раздражается, когда узнает о грозящем осложнении.