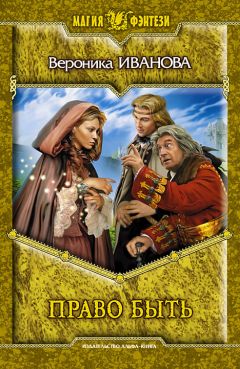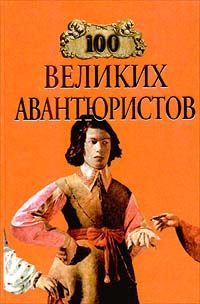Светлана Успенская - Голая правда
— Есть у нас говорит талант один, выдающийся. Прозябает он на провинциальной сцене. Отчего бы вам, ваше сиятельство, не посмотреть на него, не опробовать для какой-никакой завалященькой роли… Вы бы своим проницательным оком мигом определили, есть ли в нем выдающиеся способности или так, скучная серость одна…
Лизавета С, смахнув платочком слезу, выползшую от нечаянной нежности, говорит, мол, зови его, будем смотреть, каков он талант есть.
Тогда Сахар Медович шасть к своему другу и научает его:
— Все, друг мой, сладится. Ты только не забывай ей сладкие комплиманты отпускать, да в глазки заглядывать, да почаще делай вид, что ослеплен ее красотою и таланты ейные очень шибко душой уважаешь.
Друг, однако же, робеет.
— Как же, — говорит, — я буду перед ней таким фертом рассыпаться, когда это даже неприлично в моем юном возрасте с такими солидными мадамами амуры иметь…
— Не боись, — втолковывает ему наш Сахар Медович, — уж я-то знаю, что говорю, сам сию науку до тонкостев превзошел. Ты, главное, прикинься в нее до смерти влюбленным и все старайся поближе к ней сесть да ручку чмокнуть. Глядишь, она и растает…
А сам думает:
«Пока он за ней увиваться будет, я за ее спиной к свадебке приготовляться стану. А потом, когда он совсем приятелем с ней сделается, возымею я вид оскорбленный, дескать, ревную сильно, до крововозлияния в сердце, до кровопускания в голове. Оскорблен, дескать, оказываемым приятелю предпочтением, и поскольку в лучших чувствах своих я унижен и растоптан, то удаляюсь под сень струй с другой особой, несравненно более привлекательной, поскольку папаша ейный мне теперь зарплату регулярно платит. А ваших подачек мне отныне больше не нужно. Не нуждаемся-с!»
Так думал наш Сахар Медович, однако же не учел одного существенного обстоятельства — того, что у друга его, за которым бабка с ножом гонялась, действительный талант оказался, а не только внешность одна. И взяли его в хороший теантер без всякого содействия Лизаветы С. и без наглых ухаживаний со стороны высоконравственного друга, потому что скромность в ем значительная образовалась.
После водворения во столицах же друг этот провинциальный захаживать к Лизавете в дом стал, однако не для того, чтобы ручки ей лобызать, а просто из любопытства, а также чтобы интересных людей, там изредка бывавших, послушать.
А Сахар Медович все ждет не дождется, когда же удобный момент стукнет, дабы на месте преступления схватить за руку коварных полюбовников. И выбрал, наконец, момент-то.
Заходит он как-то к Лизавете поздно вечером и видит, сидят оне с другом и сладко беседуют. Не успев еще в комнате обсмотреться, начал он претензии высказывать, мол, вижу, что вы уже полюбовники давние, а меня за дурака все считаете, за нос водите. А я ваших измен терпеть не могу. И другу своему одним глазом мигает, мол, давай, подтверждай изменщичество.
А друг его покраснел, очи в землю тупит и только головой мотает, мол, не было отродясь ничего такого подобного — невиновен, мол, напраслину, мол, возводишь.
А тот, оскорбленный, набычился, страшно кричит, ажно слюни брызжут, ножкой об пол топочет:
— Я вижу, кому предпочтение оказывается в этом доме!
И ждет, что друг его встанет и скажет гордо в таком роде:
— Да, мы с Лизаветой С. влюблены друг в друга по гроб жизни и желаем сей факт пред всем миром засвидетельствовать!
И тогда бы Сахар Медович с гордым видом имел бы полное право удалиться к сладкой невесте Дачухиной под сень струй.
Однако же друг сих словес глаголеть не стал, а только, растерявшись, кивал, желая отрицать возведенный на него поклеп в прелюбодеянии с Лизаветой. А тут с кухни и подмога ему подоспела — актеры М. и К. там самосад курили, за жизнь беседовали.
Обиделся Сахар Медович тогда на Лизавету. Ой, как крепко обиделся, что не смог уличить ее в изменщичестве и далее пользоваться ее милостями на правах обиженной стороны. Знал же, лихоимец, что Лизавета милосердна бывает, тем и хотел воспользоваться… Да не вышло!
…И зачем же я вам байки такие некрасивые рассказываю, любезные читатели? Не для поучения же, не для просвещения. А рассказываю я вам для того, чтобы самой чуточку оправдаться и на других хоть капельку глазки вам раскрыть. Да и посмеяться тоже не повредит… Смейтесь, люди добрые, господа хорошие, смейтесь! И знайте, над чем смеетесь — над голой правдой!»
Дочитав до конца главу о Сахаре Медовиче, Лиля закрыла тетрадь. Да, конечно, ничего особо компрометирующего для Панскова здесь нет, но несомненно, ему будет не слишком приятно встретить свою фамилию. От книги Лиля ожидала чего-то другого. Чего-то вроде роковых страстей, битвы гигантов, сумерек богов. А здесь — обычное сведение счетов. Она улыбнулась. Таким и представлялся ей Владик, каким описала его Шиловская, — мелким прихлебателем, альфонсом и жиголо. Нет, такой человек вряд ли способен на преступление. Размах у него не тот.
Хотя как знать, как знать…
Глава 15
МЕЖДУ МОЛОТОМ И НАКОВАЛЬНЕЙ
— Здравствуйте, дорогой Анатолий Степанович, — пожимая руку, приветствовал Костырев руководителя театра «У Западных ворот», известного артиста Кабакова. — Извините, что пришлось вас побеспокоить, но вы ведь понимаете, чрезвычайные обстоятельства…
Народный (или почти народный) артист Анатолий Степанович Кабаков явно не был счастлив от необходимости посетить официальное здание на Петровке. Под налетом любезности читалось внутреннее раздражение от необходимости отвечать на глупые вопросы милиции, от тщательно маскируемого страха перед учтивыми людьми, под штатскими костюмами которых угадывались погоны. Кабаков старался держаться уверенно, обосновывая уверенность тем, что у него много знакомых среди высокопоставленных руководителей этого ведомства. Если его хоть немного обидят, то он сможет за себя постоять: один звонок наверх — и головомойки этим Шерлокам Холмсам не избежать.
Ох и наделала же шуму Шиловская! Теперь затаскают его по судам, по допросам. Того и гляди, выезд во Францию задержат. Конечно, лучше с милицией не ссориться, кто знает, чем может кончиться борьба с правосудием. Надев маску вынужденной любезности, Кабаков принужденно улыбнулся и ответил на приветствие вздохом:
— Что поделать, я понимаю… Надо — значит, надо.
Он внимательно окинул взглядом мешковатую фигуру Костырева и ровную спортивную выправку Кости Ильяшина, который поглядывал на вошедшего со смешанным чувством уважения, узнавания и подозрения. Костырев показался Кабакову простоватым незатейливым мужичком. Он отметил его взъерошенную шевелюру, простого покроя костюм и все его обыкновенное, непримечательное лицо, с носом картошкой, небольшими глазками, терявшимися в немного отвисших щеках.
Сам Кабаков выглядел представительным господином на склоне лет. На его лице еще сохранялись черты былой мужественной красоты, которую постепенно вытесняло благородство подступающей старости. Несколько десятков лет назад Кабакову привелось играть опера в одном из знаменитых фильмов той эпохи. По прихоти сценариста он ползал с пистолетом по кустам, прыгал с крыши (не сам Кабаков, естественно, а его дублер), глубокомысленно расхаживал по кабинету с портретом Ленина на гладкокрашеной стене и периодически выдавал многозначительные туманные фразы, из которых явствовало, что он уже знает личность преступника, но не сообщает этого зрителю исключительно для того, чтобы держать его в неведении до конца фильма. В те годы Кабаков был стройным моложавым мужчиной, от которого сходили с ума зрительницы всех возрастов. Ему представлялось, что все следователи должны выглядеть именно так.
«Квашня», — критически подумал он, пристально оглядев Костырева, и даже слегка развеселился. Они вызывают его повестками, как рядового свидетеля! Он им задаст жару своими показаниями!
Раз в жизни побывав в роли следователя, Кабаков относился к этой работе как к делу некогда знакомому и даже близкому. Поэтому он загодя продумал те возможные вопросы, которые задал бы сам себе на месте Костырева, если бы тот не знал всех обстоятельств, которые знал Анатолий Степанович. Он внутренне собрался, подготовил ответы на придуманные им самим вопросы и надеялся разойтись с милицией в считанные минуты.
— Садитесь, пожалуйста, — любезно пригласил его Костырев.
И вдруг Кабакову стало немного тревожно, защемило сердце. Он потянулся рукой к нагрудному карману пиджака, где лежал валидол, но вовремя одумался и опустил руку — они могут неправильно истолковать его жест, могут подумать, что он чего-то боится, давит на жалость.
— Анатолий Степанович, — осторожно обратился к нему Костырев, от которого не ускользнуло волнение посетителя. — Мы хотели бы услышать от вас, что вы думаете о гибели Шиловской.