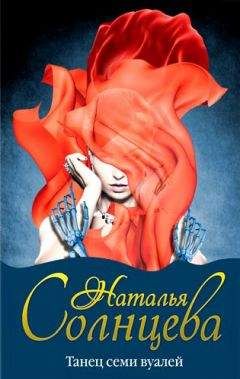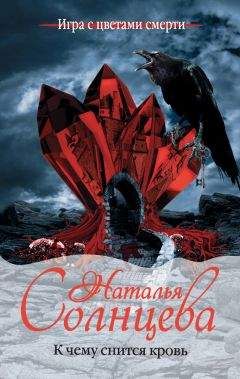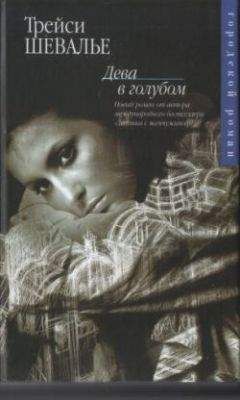Наталья Солнцева - Портрет кавалера в голубом камзоле
Глория молчала, обдумывая сказанное. Тем временем в столовую вернулся Колбин, сел на свое место и взялся за блинчики. Он помешал голубкам ворковать и был счастлив. Ему не хотелось есть, но он запихивал в рот кусок за куском.
Начальник охраны со скрытой неприязнью наблюдал за ним. Глория решила проверить свои магические способности и мысленно приказала Петру Ильичу уезжать в Москву. Тот и бровью не повел. Желание досадить Лаврову оказалось сильнее внушения, сделанного начинающим магом. Вернее, магессой.
Карлик, прячась в углу за торшером, корчился от смеха. Никто, кроме Глории, его не видел.
«Смотри и учись», – беззвучно вымолвил он и направил на Колбина сосредоточенный взгляд.
Тот заерзал, отложил вилку и оттянул ворот джемпера.
– Фу-у-у-х… душно…
Колбиным вдруг овладело необъяснимое беспокойство. Он поглядывал на часы, потирал лоб, вздыхал… и в конце концов решил покинуть честную компанию.
– Прошу прощения… у меня дела. Да! Я и так… засиделся. Нельзя злоупотреблять гостеприимством. Благодарю за угощение…
Он встал, подошел к хозяйке, суетливо поклонился и, пробормотав «до свидания», почти бегом выкатился за порог. Будто у него пол горел под ногами.
– Что с ним? – фыркнул начальник охраны.
– Санта! Проводи гостя! – крикнула Глория.
Она тряхнула головой и потерла виски. Ей стало нехорошо.
«Видела, как он пулей вылетел из столовой? – ликовал карлик, потирая руки. – Это легко! Я тебя научу…»
– Нет уж… я сама…
Лавров нахмурился, не понимая, о чем она говорит. Карлик исчез, рассыпавшись на тысячи пылинок, которые закружились в луче закатного солнца.
– Я сама, – повторила Глория.
– Что «сама»?
– Провожу человека…
Сопровождаемая изумленным взглядом начальника охраны, она поднялась и поспешила вслед за Колбиным. Сердце неистово колотилось, в ушах стоял звон. Она выскочила на крыльцо в домашних тапочках, забыв накинуть теплую куртку. Морозный воздух привел ее в чувство. Она судорожно вздохнула, унимая сердцебиение, прижала ладонь к груди.
«Не шути больше так! – мысленно обратилась она к Агафону. – Ты меня пугаешь!»
Неужели она сумела воздействовать на Колбина? Или это сделал карлик? Но ведь он…
Слово «мертв» застыло у нее на губах. Она вся дрожала от холода.
Сад и лес вдали были розовыми от заката. На снегу лежали четкие тени. Красный шар солнца, казалось, вмерз в сумеречное небо.
Колбин сидел в своей машине и прогревал мотор. Санта уже открывал ворота. Снег скрипел под его валенками.
Лавров вышел из дому с пуховиком в руках.
– Ты в порядке? – спросил он Глорию, набрасывая пуховик ей на плечи. – Простудишься…
После отъезда Петра Ильича всем полегчало. Даже великан повеселел и, напевая что-то себе под нос, возился в кухне с чайником.
Глория согрелась и перестала волноваться. Карлик больше не показывался.
– Зачем кому-то убивать Лихвицкую? – рассуждал Лавров, уписывая вторую порцию блинчиков. – Разве что она видела, кто отравил Полину. Тогда понятно. Убийце свидетели ни к чему. Надеюсь, третьей жертвы не будет? – Он вспомнил милое улыбчивое лицо Бузеевой и приторный запах пачулей. – Послушай, по-моему, мы тормозим. Если женщин убивают, это надо… предотвратить.
– Может, посоветуешь как?
– Ну…
Лавров прожевал блинчик и сознался в полном отсутствии конкретных предложений.
– А ты… ничего не видишь? – поднял он глаза на Глорию. – Образ злодея не вырисовывается?
Она сочла намек неуместным. И притворилась, что это ее не задело. Не объяснять же Лаврову, что в ее сознании возникает скорее результат, нежели процесс.
Мертвое тело, а не момент смерти. И пока что преодолеть эту однобокость ей не удается.
– Судя по отчетам, ты встречался только с женщинами: Бузеева, Наримова, Шанкина… – после короткой паузы сказала она. – Мужчины не привлекли твоего внимания?
– Почему? Я беседовал с осветителями, с музыкантами, с режиссером Канавкиным… они ничего существенного не сообщили.
– Следовало бы расспросить актера Митина. Он репетировал Антония и мог что-нибудь заметить.
– Я не успел! Слыхала, какой выговор сделал мне господин Колбин? Я на службе, между прочим…
Лавров спохватился, – за пустой болтовней он совершенно забыл о главной новости.
– Мой приятель из ГИБДД позвонил и назвал человека, с которым целуется на фото Жемчужная. Это Сатин, банкир. Во всяком случае, серая «ауди», которая на снимке, принадлежит ему. Я кое-что разузнал о нем. Темная лошадка. Заправляет делами в банке «Альфус».
– Сможешь поговорить с ним?
– О чем? Предъявлю ему компрометирующее фото, он испугается и сознается в убийстве? Не смеши меня. У него была связь с Жемчужной… и что? Еще один ревнивый Отелло? Который подкупил Лихвицкую, и та за часть акций «Альфуса» сначала втерлась в доверие, а потом отравила коварную изменницу Полину?
– Правда смешно.
– По-моему, версия не выдерживает критики. Жемчужная, Лихвицкая – мелкие сошки для Сатина. Какой ему смысл убивать актрис?
– Их убили, – упрямо твердила Глория. – Обеих. Что бы там ни говорил следователь. Побеседуй с Зубовым. Может, он кого-нибудь подозревает?
– Зубов меня сразу пошлет…
– Ты прав, – согласилась Глория. – Значит, придется ехать мне.
– В Москву? К Зубову? Ты его не застанешь. Он заперся в своей загородной резиденции. Отгрохал себе домину в поселке Летники… и торчит там безвылазно.
– Вряд ли. Инвестиционная компания, которую он возглавляет, требует неусыпного контроля. Зубов наверняка регулярно мотается в Москву. Просто он избегает встреч с прессой и милицией, – вот и прикидывается затворником. Я его понимаю.
– А я – нет! – разгорячился Лавров. – Неужели ему не хочется наказать убийцу?
– Наверняка хочется. И мы должны ему в этом помочь…
Глава 19
Крепостной живописец Тихон Лопатин, которого прислали на подмогу здешним мастерам художественной росписи, уже прошел школу в Кускове[23], – писал портреты кусковских актрис и принимал участие в изготовлении декораций для опер. Рука у него была набита. Но тут, в новом дворце, ко всему предъявлялись другие требования. Оно и понятно. Кусково обустраивал по своему вкусу покойный граф Петр Борисович, а уж в Останкине командовал его сын Николай Петрович.
Петр Борисович получил Останкино в числе прочих имений, которые принесла ему в качестве приданого единственная и любимая дочь князя Черкасского Варенька. Теперь же, по смерти родителей, все несметные богатства Черкасских и Шереметевых достались Николаю Петровичу.
«Крез меньшой», как в аристократических кругах прозвали наследника, привез из-за границы новые веяния. Увиденное во Франции и Голландии, в блестящих салонах европейской знати, побудило его воплотить в сооружении собственного дворца чистые линии классицизма и стройность античных форм. Для несравненной Прасковьи Жемчуговой возводил он роскошные апартаменты и театр, достойные ее красоты и таланта.
В Кускове Параша тяготилась своим прошлым, – там многие помнили, как она, босоногая, в замызганной рубахе, пасла коров на господских лугах. Ей завидовали, ее ненавидели. Ей мстили за нежную глубокую душу, за дивный голос и божественный актерский дар. Но более всего гневных гонений возбуждала пылкая любовь графа к «крепостной девке», которая посмела преступить сословные и христианские законы, живя в блуде с хозяином. Не венчанная, «погрязшая в грехе»… она выходила на сцену и срывала бурю аплодисментов, вызывала неудержимый восторг сановных зрителей. Но как только занавес закрывался, волшебная сказка сменялась суровой действительностью. Вслед царице кулис неслись оскорбительные намеки и унизительные реплики…
Это при том-то, что тогдашние помещики вовсю развлекались со своими крепостными и вряд ли хоть одна мало-мальски пригожая танцовщица или актерка избежала постели хозяина. Все обитатели кусковского дома, включая прислугу, знали, что молодой Шереметев имел обычай оставлять приглянувшейся девице кружевной платок с графским вензелем… таким образом уведомляя, что ночью посетит ее комнату. Подобные вольности не возбранялись и не осуждались, – напротив, были в порядке вещей.
Полюбив Прасковью и отказавшись от фривольных забав, граф нарушил незыблемое правило, перешел границу дозволенного и посягнул на вековые устои. Ни господа, ни холопы не одобрили этакого конфуза. Непримиримость общества в противовес поклонению богатого вельможи окружили молодую женщину романтической и чувственной дымкой. Ее образ приобрел черты трагические и оттого стал еще привлекательнее, порождая мучительное желание обладать сим «цветком страсти» – запретным и вожделенным, сулящим неслыханные наслаждения для тела и духа…