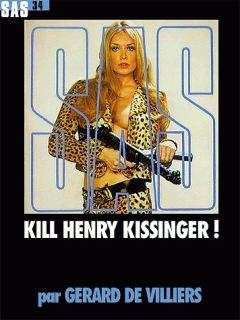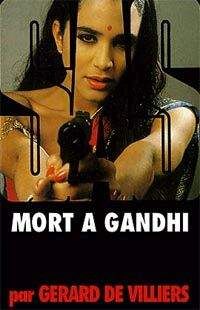Беатрикс Гурион - Дом темных загадок
— Хорошо, об этих латексных ранах я сам не сразу догадался, но то, что Эмма вдруг за ночь покрылась стигматами, хотя даже не знает о Франциске Ассизском, мне показалось более чем невероятным, — защищается дальше Том. — И, в конце концов, из письма было понятно, что Эмма сама на все согласилась.
Стигматы! Меня словно ударили по голове. Том ведь прав, эти знаки должны были символизировать раны Христовы. Но почему выбрали именно меня и зачем фотографировать?
София подходит ближе.
— Я думала точно так же, как Том! И это ведь не первый спектакль здесь. Именно поэтому я и хотела прочитать письмо Эммы.
— А если бы в письме говорилось: «Отрежьте ей палец»? Что тогда? — Филипп поднимается и качает головой.
— Но это же совсем другое!
София и Том сердито смотрят на меня, словно я во всем виновата, а я чувствую себя невыразимо скверно.
Филипп в ярости бегает взад и вперед у моей кровати.
— Я вас не понимаю. Вас вчерашнее происшествие ничему не научило? А ты, София? Если тебе это было не по душе, почему ты просто не приняла собственное решение, не заглядывая в чужие письма?
Она лишь пожимает плечами в ответ. Вообще, она выглядит такой несчастной, словно облитый водой пудель.
— Если это спектакль, то куда подевались Беккер и остальные? — спрашивает Филипп. — И при чем тут вообще стигматы? Мы ведь в летнем лагере, а не в монастыре! Я немедленно спрошу их об этом. С меня хватит!
Все переглянулись.
В общем волнении мы этого совершенно не заметили. Но Беккера, Николетты и Себастина нет. Вчерашние слова доктора все еще звучат у меня в памяти:
«А мы, кураторы, всегда будем рядом, чтобы при необходимости бросить спасательный круг».
Ах, неужели?!
— Кто-нибудь видел сегодня утром эту троицу?
Все качают головами.
— Что за дерьмо?! — Филипп стучит пальцем по виску. — Разве вы не замечаете, что нас постоянно вынуждают вести себя так, словно мы монстры?
— Да, хватит уже, — говорит Том. — Было же ясно, что с Эммой ничего плохого не случилось. К чему поднимать восстание?
— Потому что это было бы по-человечески. — Филипп садится на край кровати, берет мою измазанную кровью руку в свою и гладит. — Мне действительно очень жаль, — шепчет он. — Постоянно тебе достается.
Значит, он тоже заметил.
София перебивает его:
— Если ты перед завтраком хочешь принять душ, нужно отправляться.
— Почему ты ведешь себя с ней так грубо? — интересуется Филипп. — Ты считаешь, что все делала правильно?
София качает головой. Только сейчас я замечаю, что она готова вот-вот расплакаться. Она молча протягивает мне свой конверт и кивает.
На нем напечатано ее имя, но наполнение у него совершенно другое, чем у моего. Внутри — белая плотная карточка, я сразу вижу: отправитель оказался очень коварным. На картонке пуговицами вышита улыбающаяся рожица. А текст гласит:
«Ты держишь в руках руководство по первому терапевтическому сеансу в борьбе с фобией. Прочти, что здесь написано, и сделай, что тебе поручают. Если тебе все удастся, будет следующий сеанс. Утром после пробуждения ты отправишься в сад. Там ты обнаружишь Эмму. Ты будешь фотографировать ее. И безразлично, что она будет говорить другим или делать. Ты не позволишь ввести себя в заблуждение. Если у тебя все получится, ты сможешь оборвать все пуговицы и увидишь: это самый верный путь к твоему освобождению. Успехов».
— Мне очень жаль, — говорю я.
И на самом деле это чувствую. София тоже пострадала. «О фобии с пуговицами знал только Беккер, — думаю я, — значит, он должен стоять за всем этим, не так ли? С другой стороны, выбрал бы психолог такую экстремальную шоковую терапию?»
— Сейчас речь идет не о наркотиках, которые, как ты думаешь, я дала тебе. — София вытирает тыльной стороной ладони глаза и упрямо смотрит на меня. — Нет. «Ибупрофен» лежал на кухонном столе для тебя. Я подумала, что его оставили Себастиан и Беккер. Кроме того, таблетки находились в пластинке. Что бы я могла провернуть с этим?
Я сажусь и свешиваю ноги с кровати, только теперь замечаю, что нахожусь возле фонтана. Где когда-то утонул ребенок. Внезапно мне приходят в голову те детские могилы. Что за дрянное место этот лагерь!
Филипп делает шаг навстречу, поддерживает меня и подходит так близко, что я могу ощутить запах его волос. Он пахнет очень приятно, запах свежий, слегка соленый, словно мокрый песок на морском берегу. Я бы так хотела ему доверять…
— А что было в твоем письме? — тихо спрашиваю я.
Он качает головой.
— Я ничего не получил, — отвечает Филипп.
София, Том и я недоверчиво глядим на него.
— Как-то странно, — произносит Том. — Совсем невероятно.
Филипп пожимает плечами:
— Народ, здесь все ненормально.
Филипп прав, это непостижимо, как же я не заметила, что мою кровать вынесли сюда. Черная дыра в моей голове, куда провалились мои воспоминания, расширяется и распространяется на мои внутренности.
Я впервые думаю, что не имею ничего против, если она меня просто поглотит — и все пройдет.
Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная, твоею миловидностью! (Ветхий Завет: Песнь Песней 7:7)
Она так драила длинный эмалированный умывальник, что выбилась из сил и едва не потеряла сознание. Пот постоянно капал со лба на щетку. Ей было безразлично, что экскурсию запретили лишь ей одной. Безразлично, что Гертруда отправила ее заниматься уборкой. Безразлично, потому что так она могла лучше думать.
Марта обозвала Агнессу сумасшедшей, потому что та не могла протестовать открыто, но подруга ничего не знала о нем.
Никто ничего о нем не знает. Здесь нет настоящей исповеди, и не пришлось вообще никому о нем рассказывать. Кроме того, глубоко в душе Агнесса была уверена, что в этом нет ничего греховного. Поступок не заслуживал порицания, но Гертруде о нем ничего не нужно знать, ведь для настоятельницы все, что делала Агнесса, — от лукавого.
Началось с того, что когда Гертруда запирала Агнессу в камеру, он тайком стал приносить еду и воду. Это дружеский поступок, но так ради Агнессы уже поступали и другие — дядя Лоренц или Марта. Они ночью тайком брали ключ у Гертруды.
Но с ним все было по-другому, потому что он с ней говорил. Нет, совсем иначе. Он интересовался Агнессой, тем, что о чем она размышляет. Он думал о ней, и это насыщало ее сильнее, чем бутерброды с сыром. В последний раз он даже погладил ее по щеке, после того как Агнесса рассказала о том, что мечтает стать медсестрой. Как бы она хотела все рассказать Марте. Но, к сожалению, Агнесса должна была держать все в тайне.
Она так увлеклась работой и собственными мыслями, что не услышала, как он пришел, и вздрогнула, когда он тронул ее за плечо.
Несмотря на испуг, Агнесса сразу поняла, что это он — никто, кроме него, не прикасался к ней так нежно. Кровь прилила к щекам, Агнесса испугалась, что потеряет сознание.
Когда она наконец решилась, он приложил палец к ее губам, и это смутило ее еще больше.
Темно-розовые губы были словно списаны с образа миленького Иисуса на картинках, которые много лет назад дала ей бабушка и которые Агнесса прятала в книге для духовного чтения. «Нет, — пронеслось у нее в голове, — там были небесно-голубые глаза и светло-коричневые волосы до плеч. Нет, — убедилась она, как только он заговорил, — это может быть лишь его голос».
— Гертруда только что отправилась поспать после полудня. Мы можем прогуляться к озеру и искупаться.
Идти плавать вдвоем? Он пойдет с ней, самой худшей из всех? Ведь ей даже не разрешили поехать на экскурсию.
— Если поймают, Гертруда забьет меня до смерти, и я, наверное, отправлюсь в камеру на несколько лет. — Агнесса удивилась, что удалось подыскать внятный ответ на его невообразимое предложение.
Он посмеялся над ней.
— Ты должна решиться. Какая разница, забьет она тебя до смерти или бросит в камеру?
— А почему вы не поехали на экскурсию в Зальцбург? — Агнесса точно знала, что Марта и остальные девочки только обрадовались бы его компании, а он стоял именно перед ней.
— К сожалению, сегодня утром я колено… повредил.
Он подмигнул и прихромал к ней ближе, словно старик, но потом ринулся вперед, обхватил ее за талию. Щетка выпала у нее из рук на кафельный пол. Он закружил ее, казалось, они танцуют вальс.
Ей стало так жарко, что больше всего на свете она сейчас хотела бы сбросить с себя всю одежду. От этой мысли щеки Агнессы, и без того красные, обдало жаром. И она знала: ничто не остановит ее от вступления в Христианский девичий союз.
— Не надо! — задыхаясь, вымолвила она.
Но он лишь крепче прижал ее, и Агнессе это нравилось, хотя голова шла кругом от быстрого вращения. И ей пришлось прижаться лбом к его плечу. Удивительный запах его кожи дурманил ее сознание — такой плотный и соленый, кисловатый, как от свежесрубленного дерева. С каждым вдохом она становилась все легче, ее тело стало просто невесомым, только сердце билось свинцовыми ударами в такт, который он отбивал: раз-два-три, раз-два-три. Они вдвоем летели на небо в серой душевой, и рядом никого…