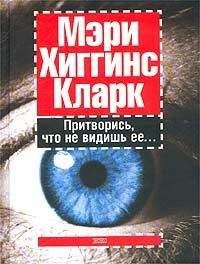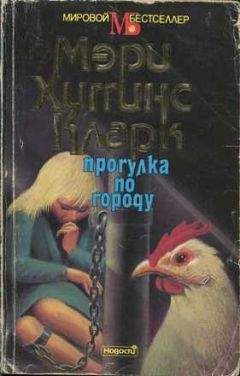Мэри Кларк - Тень твоей улыбки
Протягивая руку за одной из дополнительных подушек, он подумал: «Она знает, что я собираюсь ее убить». Он вспомнил, что, поднося подушку к ее лицу, сказал: «Прости меня, Оливия».
Его ошеломило, что, несмотря на свою слабость, она отчаянно сопротивлялась. Прошло не более минуты, но для него эта минута, пока ее слабеющие руки наконец безжизненно не упали на одеяло, показалась вечностью.
Когда он убрал подушку, то обнаружил, что Оливия во время борьбы прикусила губу. На подушке, взятой, чтобы задушить женщину, осталось одно пятнышко крови. Он в панике решил поменять местами эту подушку с той, что была у нее под головой, но сообразил, что вид крови может возбудить подозрение. Вместо этого он пошел к бельевому шкафу. Там, на средней полке, он нашел два аккуратно сложенных комплекта простыней и наволочек. Каждый комплект состоял из двух простыней и четырех наволочек. Один комплект был кремового цвета, другой – бледно-розового. Кровать была заправлена бельем персикового цвета.
Хэдли решил, что ему следует воспользоваться случаем и заменить испачканную наволочку одной из розовых. Он утешал себя тем, что они не слишком отличаются, а если кто-то заметит, то может подумать, что другая персиковая наволочка потеряна в прачечной. Он знал, что Оливия отправляла постельное белье в прачечную каждую неделю; она говорила в шутку, что тонкое постельное белье из хлопка было для нее одним из предметов роскоши, поэтому пользовалась профессиональной стиркой и глажкой. Но когда он менял наволочку, то с ужасом обнаружил, что кровь просочилась и на саму подушку. Испугавшись, Клей понял, что, если попытается вынести подушку с собой, это заметят. Лучшее, что он может сделать, – поменять наволочку в надежде, что никто ничего не поймет.
Сложив испачканную наволочку, он засунул ее в карман пальто, потом принялся искать тайник с папкой Кэтрин. Оливия назначила его своим душеприказчиком, сообщив комбинацию сейфа, с тем чтобы завещание было утверждено без проволочек, когда придет время. Документ был весьма простым. Несколько небольших сумм было оставлено давнишним служащим здания, а также уборщице. Обстановка квартиры, автомобиль и драгоценности подлежали продаже. Вырученные деньги вместе с небольшой папкой акций и облигаций предназначались для различных католических благотворительных организаций. В завещании указывалось, что Оливия сама заказала и оплатила услуги в похоронном бюро «Фрэнк И. Кэмпбелл». Она не захотела, чтобы гроб с ее телом был выставлен для прощания, и пожелала быть кремированной после заупокойной мессы в церкви Святого Винсента Феррера. Ее прах надлежало захоронить в могиле матери на кладбище Калвари.
В сейфе хранилось завещание, а также немного драгоценностей – жемчужное ожерелье и небольшое бриллиантовое кольцо с серьгами. Стоило все это не более нескольких тысяч долларов.
Но к разочарованию Хэдли, папки с документами Кэтрин там не было. Отдавая себе отчет в том, что консьерж мог обратить внимание на его длительный визит, Клей Хэдли все же обыскал каждый дюйм квартиры Оливии, но безуспешно. Папки Кэтрин он не нашел.
«Что она с ней сделала?» – в отчаянии спрашивал себя Клей. Возможно ли, что Оливия уничтожила папку, а потом, после разговора с Моникой Фаррел, решила не открывать правду? Ему в голову приходило только такое разумное объяснение. Когда он спустился вниз, его остановил консьерж.
– Как себя чувствует миз Морроу, доктор? – участливо спросил он.
Тщательно взвешивая слова, Клей ответил:
– Миз Морроу очень, очень больная женщина. – Потом добавил хриплым голосом: – Ее не станет с нами через несколько дней.
Вечером следующего дня, когда ему позвонили и сообщили, что Оливия была найдена мертвой, он оказался в гостиной Оливии вместе с Моникой Фаррел. После прибытия «скорой помощи» Моника оставалась в квартире недолго. Ей нечего было сказать, кроме того, что она приехала на заранее назначенную встречу с Оливией Морроу. Оглядываясь назад, Клей был доволен тем, как ловко обошелся с медиками, объяснив им, что был личным врачом Оливии, что она была неизлечимо больна и что только вчера вечером он умолял ее поехать в хоспис… Потом, когда приехал служащий похоронного бюро, медики прикрепили бирку к ее телу, а он подписал свидетельство о смерти.
После бессонной ночи и отчаянного звонка Дугу оставшуюся часть четверга Клей занимался тем, что уничтожал любые следы, позволяющие заподозрить его в причастности к смерти Оливии. Он написал в «Таймс» краткий некролог, обзвонил небольшой круг знакомых из ее записной книжки, договорился о заупокойной службе, а также позвонил ликвидатору, с которым встретился в ее квартире для составления описи имущества. Наконец, почувствовав, что сделал все возможное, чтобы предстать в качестве заботливого друга и душеприказчика, он принял снотворное и отправился спать.
В девять утра пятницы, едва он вошел в свой кабинет, зазвонил телефон. Секретарша сообщила, что некий Скотт Альтерман спрашивает об Оливии Морроу.
«Какое отношение он имеет к Оливии?» – недоумевал Хэдли, чувствуя спазм в желудке.
– Соедините меня с ним, – сказал он.
Скотт представился:
– Я друг Моники Фаррел. Полагаю, вы с ней встречались в квартире Оливии Морроу в среду вечером.
– Да.
«К чему он клонит?» – спрашивал себя Хэдли.
– Всего за день до смерти миз Морроу сообщила доктору Фаррел, что знала ее бабушку. Ясно, что она имела в виду ее настоящую бабку. Вы рассказали доктору Фаррел, что были давнишним другом миз Морроу, а также ее лечащим врачом и душеприказчиком ее имущества. В таком случае вам, вероятно, знакома история семьи миз Морроу?
Хэдли старался говорить твердым голосом.
– Совершенно верно. Я стал кардиологом ее матери, затем и Оливии. Оливия была единственным ребенком. Ее мать умерла много лет назад. Я никогда не видел других родственников.
– И миз Морроу не говорила с вами о своем происхождении?
«Придерживайся правды, но никаких деталей», – предупредил себя Хэдли.
– Помню, что Оливия рассказывала мне, что отец умер до ее рождения, а мать повторно вышла замуж. К тому времени, как я с ними познакомился, ее мать овдовела во второй раз.
Потом прозвучал вопрос, от которого у Хэдли пересохло в горле. Скотт Альтерман поинтересовался:
– Доктор Хэдли, вы ведь много лет состоите в правлении фонда Гэннона?
– Да, это правда. А почему вы спрашиваете?
– Пока не знаю, – ответил Альтерман. – Но я уверен, можно найти ответ, и предупреждаю вас, я его найду. До свидания, доктор Хэдли.
42
В пятницу утром Питер Гэннон проснулся с таким похмельем, которое превзошло все подобное, испытанное им ранее. Голова раскалывалась, его мутило, им овладело ошеломляющее чувство, что почва уходит у него из-под ног.
Он понимал, что ему придется объявить себя банкротом, поскольку он не в состоянии отдать долги поручителям своей постановки. «Почему я не сомневался, что это будет хитом? – спрашивал он себя. – Глупо было гарантировать им выплату половины того, что они вложили, но это был единственный способ выбить из них хоть какие-то деньги. Теперь я для них отверженный».
Он долго стоял под горячим душем, потом, поморщившись, включил холодную воду. Вздрагивая под тугими ледяными струями, он пытался убедить себя в том, что все равно придется признаться Грегу. «Черт меня дернул проговориться Рене Картер об участии Грега в инсайдерских торговых операциях! Да к тому же я сказал ей, что, кроме благотворительных акций в поддержку исследований Клея в кардиологии и Дуга в психиатрии, наши пожертвования из фонда в основном невелики и делаются исключительно для показухи. Если она не надумала шантажировать меня ребенком, то, несомненно, станет угрожать разоблачением мошенничества в торговых операциях. Господи, а если начнется расследование!»
Питер постарался отогнать от себя эту мысль.
«Грегу все же придется дать мне миллион долларов, чтобы я откупился от Рене, и притом сделать это сейчас. Я виделся с ней во вторник вечером. Насколько я знаю, она уже прикинула, сколько денег получит за доносительство. Когда почти два с половиной года назад она уехала из города, я дал ей два миллиона долларов за молчание. Она сказала, что отдаст ребенка на удочерение».
Питер, пошатываясь, вышел из душевой и потянулся за полотенцем.
Рене… Он вспоминал, как во вторник пил весь вечер, боялся сказать ей, что пока может наскрести лишь сто тысяч долларов, но не миллион. Потом, пока дожидался ее в баре, выпил два скотча. Надо было соврать ей, что сто тысяч – это все, что он может дать, и точка. Надо было одурачить ее. А что потом… Когда он отдал ей сумку со ста тысячами, она рассвирепела, поняв, что больше ничего не получит. Последний платеж. Больше никаких денег. И еще ее могут обвинить в вымогательстве. Когда она выскочила из бара и побежала по улице, он помчался за ней и схватил за руку. Она уронила сумку и ударила его по щеке, поцарапав ногтем лицо.