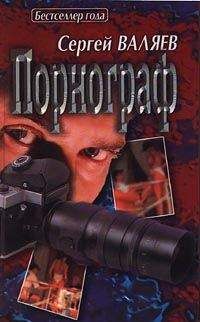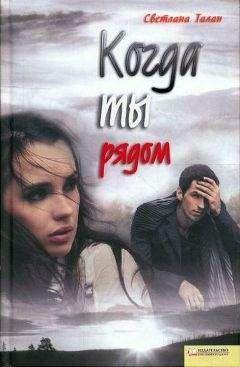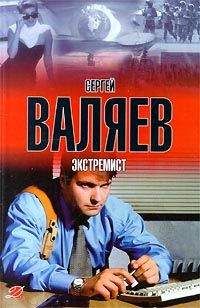Сергей Валяев - Провокатор
— Ты где?! — орет мой друг циничный Цава. — Новость-то знаешь?!
И по его обалдуевскому, торжествующему голосу я все понимаю:
— Только не говори, что…
— Вот именно, дружок… то самое…
— Не может быть!
— Я же сказал: плюс-минус месяц!..
— Что же это такая бесконечная еб-ца-ца?
— Лафетные гонки продолжаются! Кто на новенького?
И, пусть нас простят, мы начинаем хохотать, оба, по разные стороны телефонной связи, и наш утробный, грубый, оскверняющий официальную скорбь дня хохот гремит над весенней почвой.
Потом я спрашиваю:
— А как же Кулешов?
И мой товарищ ничего мне не отвечает. Он молчит, мой друг, и я все понимаю.
Принуждение невозможно, если народ сопротивляется. Но сопротивляется ли народ?
И приснился мне странный сон: будто я нахожусь в кутузке. Там бетонные стены, лампочка в сетке намордника, страшная железная дверь. К счастью, в камере я не один — за столиком сидит человечек, он невзрачный, лысоватенький, плюгавенький, похож на кассира, в очках, под рукой деревянные счеты и гроссбуховский фолиант.
— Устали-с от суеты мирской? — говорит он мне. — Отдыхайте, у нас здесь благодать, тишина.
— Где я?
— Вопросики у нас возникли, молодой человек, — говорит и листает книгу.
— Где я?! — ору. — И кто вы такой?!
— А вот кричать не надо. Не надо! А то сделаем больно.
— Не имеете права.
— Все мы имеем, все, — спокойно говорит кассир и гладит флюгерную лысинку. — Попрошу отвечать на вопросы.
— Это… это черт знает что!
— По какому праву ты, сволочь, пишешь вредный для нашего общества роман?
— Какой роман? — искренне удивляюсь я.
— Вот этот самый. — Кассир из ящика вытаскивает и хлюпает на доски стола довольно-таки пухлую рукопись.
— Что это? — не понимаю.
— Прочитать?
— П-п-пожалуйста.
— Вот это как понимать: «Между землей и небом на высоте горизонта пространства вольного власть»?
— А-а-а, — облегченно вздыхаю. — Так это наброски… это пока все в мыслях, понимаете?.. Он же еще не написан… — И вдруг торжествующе воплю: — Так, значит, я его напишу?!
— Иван Иванович, — скучно говорит человечек, — объяснитесь с товарищем провокатором.
В камеру вваливается громила с красногвардейской рожей, жующий тараньку. Смотрит на меня мелкими рецидивистскими глазенками.
— Ну-с, Тараненко, объясните гражданину Александрову, в какой стране он имеет честь проживать!
— Это можно! — И многопудовый кулак тыркается в меня.
Я отлетаю в ночные звезды, в межгалактическое пространство, между землей и небом на высоте горизонта пространства вольного власть?
Потом мне удается открыть глаза, и меня участливо спрашивают:
— Ну-с, будем уважать народ?
— Б-б-будем.
— Прекрасненько, так и запишем.
— Но послушайте, — пытаюсь говорить. — Если я не совсем в чем-то прав, пусть меня поправят, только зачем такими бесчеловечными методами…
— Слушай, ты, аполитичная сволочь, — цедит человечек сквозь зубы. Народ тебе, накипь, не позволит порочить великие идеи! И самого себя! Народ все знает…
— А где этот народ?
— Там! — И тыкает кассирский палец вверх. — Свободный, гуляет над твоей головой. А ты здесь будешь гнить!
— Но за что?
— Опять не понял?
— Не понял.
— Тараненко!
— Понял-понял.
— Что?
— Все.
— А конкретно?
— Роман писать не… не…
— Ну?
— …нежелательно!
— Молодец! — умиротворенно заулыбался человечек. — А еще?
— Не… не знаю…
— А если подумать? Вот что ты, блядь, сейчас делаешь?
— Сижу.
— Нет, ты думаешь сидя! — Кассир клацнул костяшкой счетов. — А думать мы тебе категорически запрещаем. Раз! — И снова клацанье костяшки. — За тебя есть кому думать! Два! — Клацанье костяшки. — И три! Ты должен признаться, что ты верблюд! — Клац-клац-клац.
— А почему верблюд?
— Потому что не думает! — хихикнул мой плюгавенький враг. — И не гонобобелится, как некоторые, а идет, куда его гонят.
— Разрешите с вами не согласиться. Один мой товарищ, кстати, сексот, считает…
— Здесь все мы считаем! — взвизгнул подземельный человечек и шлепнул изо всех сил ладошкой по рукописи — и та неожиданно взорвалась ярким обжигающим фейерверочным пламенем.
Рукописи не горят?
И я проснулся, и было новое утро, и О. Александрова варила на кухне кофе, и мы потом пили этот тахинно-виниловый напиток, и слушали по радио траурное аппанассинато, и почему-то ни о чем не говорили. Закончив завтрак, я предложил:
— Давай заплатим за квартиру?
— Зачем?
— И начнем новую жизнь.
— Давай, — согласилась жена. — И надень новый костюм.
— Зачем?
— Встречают по одежке…
— Я сначала пойду в ДЭЗ…
— Иди, там тоже люди.
Я пожал плечами и ушел в комнату, где и переоделся. У нового костюма был запах теплого поля.
— Я пошел! — крикнул у входной двери.
— В новом костюме?
— Да!
— Ни пуха!
— К черту, — буркнул я и сделал шаг за дверь, потом шаг по лестничной клетке, потом шаг по ступеньке, и еще один шаг вниз, и еще шаг, и еще шаг шаг шаг шаг шаг шаг
Плата за шаг?
Молодцеватый молоденький офицер торопился, у него было отличное настроение, поскольку жена наконец разродилась ребенком.
— Скоренько-скоренько, — говорил он смертнику. — Что ты там копаешься? — И подчиненным ему солдатам внутренней службы: — Представляете, пацана родила. Четыре кило и четыреста граммов. Е'мать твою! Богатырь! Так, выходи, — приказал он человеку в камере. — Руки за спину! Шагом марш!
В дирекции по эксплуатации зданий рыдало радио. Дверь, мне нужная, оказалась заперта. И я отправился на поиск живых людей. Никого не было, кроме шалой, изморенной бессонными ночами любви девицы, которая общалась по телефону:
— И он что? А она что? А он? А она? И он? А она? И что? С ним? Без него? В него? У-у-у!
— Девушка, — не выдержал я, — а где Ильина-Бланк?
— А она? А он? И она? И он? Лю-ю-юбят?
— Девушка!
— Вы что? Не видите? Я разговариваю…
— Вижу, — решил не отступать. — Где Ильина-блядь-Бланк?
— Любят, надо же! — И мне: — Нет Ильиной, блядь, нет, и бланков тоже нет!
— А где она?
— Гражданин! — Девушка от возмущения поднялась с места. Грудь у нее была великолепная; на такой груди спи, как на пуховой подушке. — Вы знаете, какой сегодня день?
— Какой?
— Черный день календаря!
— Извините, — сказал я. — У вас красивая грудь, — сделал комплимент. — На такой груди можно спать, как на пуховой подушке. Желаю успехов! — И ушел.
Поговорим о любви. Почему-то лицемерно считается, что детишек находят в капю-ю-юсте, а того, кто считает, как я, например, что все-таки их находят в плодах манго, обвиняют бог знает в чем.
А что касается девушки из дирекции по эксплуатации, то у нее действительно красивая грудь. И долг каждого мужчины говорить ей и подобным ей об их достоинствах, им это нравится, хотя некоторые привередливые могут залепить пощечину.
Пощечины я не получил, следовательно, девушка многоразовой эксплуатации осталась моим комплиментом довольна.
что чувствовал Кулешов, когда шел по коридорному подземелью, когда уже знал, куда этот коридор ведет? Что же он чувствовал, смертник?
А ничего не чувствовал.
Ни-че-го.
А если быть абсолютно точным: довольство от того, что наконец происходит событие. За три года! Правда, за эти три года случилось еще одно событие, странное и загадочное, — появление корреспондентки газеты. Но тогда Кулешов не в достаточной мере был центром события, не был центром мироздания, не был, — а вот сейчас, сейчас, сейчас…
На площади у театра происходили диковинные события. Солдатики стройбата притянули к крышам аэростат. Алюминиевый каркас рамы лежал, утопая в мартовских лужах. У грузовиков скучали офицеры. Фанерные полотнища с изображением членов высшего политического руководства страны стояли, прислоненные к загрязненным бортам машины. Басил старшина:
— Кого цеплять-то? А? Скоро?.. Мне народ кормить надоть. Ежели не цепляем, в Бога! душу! вашу! е'мать, то вызывайте походную кухню! Второй день без горячего!..
Офицеры отмахивались и были, конечно, не правы: какая может быть служба без горюче-смазочного материала?
Камера была как камера, но пустая — только стены-стены-стены-стены.
— Ты, родной, не бойся и не дрыгайся! — Офицер внутренних войск был нетрезв по причине рождения сына. — А то некоторые нехорошо себя ведут, себе же во вред. — Офицер дышал перегаром, поправляя тело Кулешова для удобства выстрела. — Так, отлично! Гляди пред собой и думай о приятном, о бабах можно! Понял? И смерть легкую гарантируем. Понял? Со знаком качества! Понял?
В театре нарумяненный и ломкий юноша-педераст провел меня в дирекцию. В дирекцию чего: искусство-эксплуатации? По радио гремели на всю планету куранты. В кабинете группа людей оживленно обсуждала проблемы творчества. При моем появлении все разом замолчали, точно заговорщики.