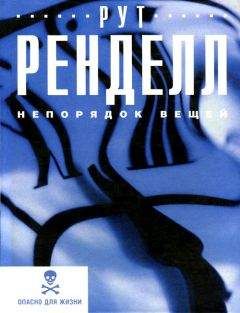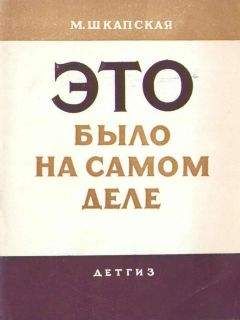Карло Шефер - Кельтский круг
— Наидобрейшее. Присаживайтесь. — Неловким при всей своей наглости жестом Момзен показал гаупткомиссару на единственный незанятый стул, обычно предназначавшийся для посетителей.
Демонстративно глядя мимо него, Тойер справился у Лейдига:
— Что там у вас нового?
— Вчера мы ездили на виллу. Много лет она пустует, так давно, что соседи уже не связывают ее с семьей Гросройте. Но там была его берлога.
— Значит, когда мы с Ильдирим его видели, он шел домой. Вероятно, переплыл Неккар… так что же, вы его поймали?
— Нет, — Хафнер сокрушенно и смиренно помотал головой, словно бывалый охотник, видавший всякое. — Мы обнаружили лишь кое-какие следы в подвале. К примеру, вот это. — Он бросил на стол стопку записных книжек. Тойер открыл наугад одну из них. Там оказались тексты, написанные печатными буквами. Гаупткомиссар подавил желание прочесть их от корки до корки.
— Судя по всему, сестры Плазмы тоже нет в живых.
— Уже пятнадцать лет, — подтвердил Хафнер. — Самоубийство — она повесилась в этом самом доме. С тех пор у Плазмы не зафиксировано конфликтов с полицией из-за ночевок в неположенных местах. Мы узнали все это так поздно, потому что берег Неккара в Виблингене стал элитным. Из местных там теперь днем с огнем никого не сыщешь, только всякий сброд — ученые, юристы и прочие.
Момзен нервно передернул плечами.
— Вероятно, Плазма там и жил. — Штерн казался усталым. — Жрал сырых кур. Ни мебели, ни электричества. Теперь вся местность, разумеется, под наблюдением. Думаю, скоро он будет у нас в руках, но пока где-то бродит. Да, кстати, мы поинтересовались перемещением банковских средств Людевига. Ничего особенного не обнаружили.
Тойер рассеянно кивнул и раскрыл записную книжку на последней странице, которая выглядела самой новой.
ВРЕМЯ ПЛАЗМЫ НАЧАЛОСЬ УБИЙСТВО ОЧЕВИДНОЕ СМЕЩЕНИЕ ОЧЕВИДНОСТИ ВМЕСТО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЕРЬ МЕСТО ДЛЯ РЕГУЛИРОВЩИКА СМЕЩЕНИЕ МЕСТ РЕГУЛИРУЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО С ЧЕРЕДУЮЩЕЙСЯ ПООЧЕРЕДНОЙ ПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬЮ ОБУСЛОВЛЕНА ОТМЕНА МЕСТ ОТМЕНЫ ОТМЕНА ТЕКСТА СТАНОВИТСЯ ТОГДА ПОДЛЕЖАЩИМ ОТМЕНЕ ПРАВИЛОМ УПЛОТНЕНИЕ ЛИНИЙ В ВЕРЕВКУ РЕЗКО ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ВСЕ ЧТО НЕ ПЛАЗМА
— Как я догадываюсь, никто из вас не потрудился прочесть записи? — спросил он, обращаясь к овалу из столов.
— Что вы хотите там прочесть? — с удивленной улыбкой поинтересовался Момзен. — Ведь это набор слов, ни с чем не связанный. Потом вы можете передать их в собрание Принцхорна, ведь вы, гейдельбержцы, так им гордитесь.
Тойер (в свое время энтузиастка Хорнунг так и не смогла затащить его в этот музей) теперь возмущенно возвысил голос:
— Собрание Принцхорна — примечательная коллекция творчества душевнобольных. В этих произведениях, возможно, в самом деле содержатся ответы на многие загадки человеческой психики, поэтому в нашем городе их хранят и изучают.
Хафнер восхищенно уставился на шефа. Тойеру стало неловко при мысли, что его ребята теперь станут считать его еще и знатоком культуры, но Момзен все же заткнулся.
Паузу следовало использовать, ведь люди редко молчат.
— Что, если мы попробуем рассмотреть структуру текста? Вот, например: «Время плазмы началось. Убийство очевидное смещение очевидности… вместо регулирования теперь место для регулировщика». Итак, тут он, на мой взгляд, пишет, что убийство теперь действует там, где прежде действовало регулирование, то есть правило. Я не могу сказать, что это такая уж безумная мысль. «Смещение мест регулируется одновременно с чередующейся поочередной плазматической обусловленностью» — черта, то есть точка. Он опасался, что это новое регулирование влияет на все, что взаимообусловлено. И вот он продолжает: «обусловлена отмена мест отмены». Это может означать: то, что теперь наступило (предполагаю, речь идет о втором убийстве), ведет к тому, что места, где он что-то хранит, то есть его берлогу, нужно отменить, устранить. — К удовлетворению, что удалось извлечь из безумных строчек какой-то смысл, примешивалась неловкость, в которой Тойеру не хотелось признаваться. — Он поменял укрытие. Мы опоздали. «Отмена текста становится тогда подлежащим отмене правилом». Правило, которое он установил в своей безумной голове, а именно хранить свои тексты, больше не действует. Эти тексты были его жизненной целью, его идентичностью, и он от нее отказался. «Уплотнение линий в веревку». Точка. Вероятно, он видит и ощущает какие-то признаки наступления времени плазмы, а для него это должно означать апокалипсис. Он считает, что линии уплотняются в веревку. А для него это означает уход… — Тойер умолк и представил себе ужас, которому Гросройте сопротивлялся десятки лет, в изнеможении цепляясь за ассоциации. — «Резко заканчивается все, что не плазма». Такова его последняя фраза. А перед этим слово «веревка», в уже известной нам манере сочетать параллельные смыслы. Я могу предположить, что он где-нибудь повесится, если уже не повесился. Вспомните его сестру.
— Если бы вы с самого начала, — процедил Момзен с вызывающей усмешкой (мальчишка в самом деле осмелился их поучать), — энергично искали этого сумасшедшего болтуна, до серийных убийств не дошло бы!
— О серийных убийствах говорят лишь после трех жертв, — с невинным видом возразил Хафнер. — Это международная практика.
Момзен полностью игнорировал его слова, лишь помахал перед собой рукой, прогоняя дым.
— Я много о вас слышал, но все еще хуже, чем я думал! Один из первых свидетелей, — мальчишка кивнул на следственные материалы, — прямо назвал Плазму лицом, совершившим преступление. После убийства сумасшедший скрылся. Он спрятался! Он так боялся за свою безумную жизнь, что жрал сырых кур!..
— Да, он боялся! — проревел Тойер. — Он всю жизнь испытывал страх, немыслимый страх, такой, какого вы не смогли бы выдержать. Вот вы шустрите, стараетесь не рассердить никого из тех, кто мог бы причинить вам вред! Смотрите не промахнитесь с нами! В нас вы тоже нуждаетесь, дорогой студент, ведь мир состоит не только из иерархов… Между прочим, подозреваемый тоже человек, со своим именем, со своей жизнью. И вы не имеете права лишать его последних крох достоинства. Он — господин фон Гросройте, а тому, кто с этого момента назовет его Плазмой, я влеплю оплеуху. И только попробуйте мне выбросить слово «фон»!
— Ах вот как! Значит, я шустрю? — Момзен вскочил и бросился к старшему гаупткомиссару. Хафнер небрежно поднялся и швырнул мальчишку на стул.
— Полный финиш, — пробормотал Лейдиг.
— Я шустрю, — пробормотал моложавый прокурор, словно во сне. — Мне и думать долго не нужно о том, кто мог вам это сказать. Обычно людей озаряет свет истины, а надо мной взошел полумесяц…
— Вы ведете себя как столичный тип, приехавший в деревню… — в отчаянии заявил Штерн.
— Этот разговор я продолжу только в присутствии обер-прокурора Вернца и господина Зельтманна. И если вы еще раз позволите себе рукоприкладство, я позвоню… — Момзен не закончил свою жалкую и бессмысленную фразу. Умолк. Теперь он в самом деле напоминал гимназиста.
— …в полицию, — презрительно договорил вместо него Тойер. — Разумеется. Номер простой, сто десять, даже ребенок запомнит.
Момзен — иного Тойер и не ожидал — в самом деле притащил обер-прокурора Вернца и доктора Зельтманна, но разумеется, лишь потому, что дело застряло в такой чрезвычайно тревожной фазе. Слизнякам требуется время, чтобы освоиться, и уж потом они начинают гадить. Прокурор лихо повторял «господин фон Гросройте» и изложил догадки Тойера по поводу безумных строк — разумеется, как продукт совместных усилий. Неожиданно он освоил слово «мы».
— Эй, что делать? Что нам теперь делать? — Лысина Вернца отбрасывала солнечный зайчик на желтые обои. По Зельтманну было видно, что у него крутился на языке любимый ответ на подобные вопросы: «Лучше пока не делать ничего».
— Будем искать дальше, — заметил Тойер. — Ясно, что наблюдение за домом в Виблингене снимать нельзя, но другая группа пускай прочешет местность, как полагается. Кроме того, теперь пора показать фотографию фон Гросройте по всему региону.
— У нас ее нет, — сухо напомнил Лейдиг.
— И то верно. — У шефа группы возникло нехорошее предчувствие, что сегодня в его черепе в самом деле угнездилась мигрень. Как нарочно. — Но ведь существует много снимков города. Возможно, где-нибудь мелькнет и его физиономия.
— Я проверю, — с поразительной готовностью заявил Хафнер. — У меня есть несколько фотоальбомов. Как у всякого гейдельбержца.
В самом деле, в последние годы вышли два объемистых фотоальбома с жителями Старого города; частично они были сняты за своими обыденными занятиями, некоторые намеренно позировали перед камерой — пили вино, немощные старцы тащились куда-то, истерично пытаясь собрать возле себя избалованных отпрысков. Кто-то был просто законченным оригиналом и гордо пялился в объектив — мол, знай наших. В целом затея оказалась необыкновенно успешной — еще бы, каждый неудачник, увидев собственный портрет, да еще отменного качества, постарался его купить, а также его жена, разочарованная до той поры теща и родственники.