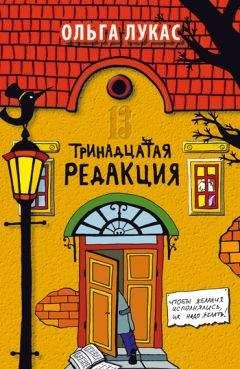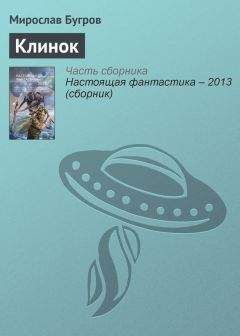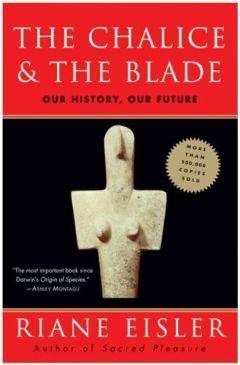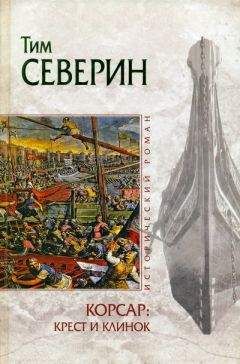Екатерина Лесина - Клинок Минотавра
…и худая, болезненно худая.
Язва? И язва тоже. Нервы – ее болезнь, страх, который никуда не ушел, пусть бы этой женщине и удалось изгнать его. Она борется, выматывая себя, тратит остатки сил на войну и скоро падет в бою с собой же.
Не сейчас.
Иллария не без труда сдвинула с места широкие лопасти ворот и рукой махнула, мол, свободен проезд. Машина вползала, сминая колесами одичалые травы. И через открытое окно доносился медвяный аромат цветов. Нет, их Иван никогда не сеял и с огородом не возился, потому как знал – не сумеет вырываться из города часто. А значит, зарастут грядки бурьяном и осотом, полынью. Двор-то проще… в палисаднике поднимались кусты шиповника, еще бабкой посаженные. И упрямые рыже-черные рудбекии, над которыми гудели пчелы. Малина разрослась, выпустила осторожные плети за забор, проверяя, есть ли там жизнь.
Иллария не утерпев сняла крупную ягоду, сунула в рот и зажмурилась:
– Сладко!
– Там еще кусты смородины есть и крыжовник, – Иван возился с дверным замком, поставленным за исключительную надежность, но как выяснилось, к ней прилагался дурной характер. – И вишня, думаю, должна поспеть. А вот яблоки – только через месяц.
– Вишня… яблоки… рай земной.
А Машка называла это место сельскохозяйственным адом, не понимая упрямой Ивановой к нему привязанности. Приезжала и выходила из машины хмурая. В дом шла с оскорбленным видом, чтобы сесть у окошка с книгой или вот с ноутом… она принципиально отказывалась помогать с уборкой.
Или с прополкой.
…Она ведь не рабыня. Она отдыхать приехала.
– Дом надо проветрить, – сказала Иллария, переступив порог. – Ты давненько сюда не наведывался.
Это точно, еще с зимы. Зимой в доме иначе, холодно, но холод этот заставляет жаться к печке, и полы, деревянные паркетные с подогревом, не спасают. Иван облачается в свитер с орнаментом, и в старые вельветовые брюки, вытертые на коленях.
Разжигает камин.
И берет в руки газету… он сам себе видится помещиком на отдыхе, осталось только собаку завести, но у Машки на шерсть аллергия.
– Давай ты ставни снимай, – Иллария бросила сумку на пол и достала тапочки, – а я окна открою. И покажи, где у тебя тряпки…
– Убирать собралась?
– Полагаешь, не стоит? – она провела сложенными щепотью пальцами по полке. – Извини, Иван, но в таком бардаке существовать – преступление.
Женщина действия.
И вооружившись тряпкой, Иллария принялась за уборку. Она подобрала свою непомерную юбку, выставив голые синеватые ноги. И рукава блузки закатала, оказалось, что и руки у Илларии под стать ногам, тощие и синеватые, со вспухшими венами.
– Не смотри, – бросила раздраженно, поймав внимательный взгляд Ивана. – Я не наркоманка.
– И не думал.
– А люди обычно думают… это после того… почти ничего есть не могу… он говорил, что модель должна быть стройной и… я привыкла к овсянке на воде. К кашам… а потом вот оказалось, что нервное и язва. Меня Машка уговаривала к психотерапевту обратиться.
Забравшись на подоконник, Иллария сражалась со стеклом. Она терла его мятой газетой остервенело, уже не замечая, что окно чистое, сухое…
– Может, стоило совета послушать?
– Может, и стоило.
Тазик и тряпка нашлись на кухне. Полы Иван мыть не любил, но умел.
– Лучше половики во двор вынеси. Вытряхнуть надо, – по-своему распорядилась Иллария и добавила тихо: – Я не сумасшедшая… я просто никак не могу отделаться от него.
И от страха, который убивает ее медленно, но верно.
Половики Иван вынес, закинув на ветку старой яблони, низкую, удобную, словно нарочно выращенную именно для выбивания половиков, избавил от пыли. А потом заглянул в одичалый сад и набрал вишен, темно-рубиновых, крупных и сладких.
Высыпал в почти чистую миску.
– Это тебе… за работу.
Он поставил вишни на стол и отступил, точно опасаясь, что Лара откажется от подарка. Да нет, не подарок, жест вежливости.
Угощение.
Не отказалась. Улыбнулась робко.
– Обожаю вишни, – тихо сказала Иллария. – С детства.
Она ела их, забравшись на стул, скрестив ноги и подперев острый подбородок ладонью. Брала по одной, разглядывала, отправляла в рот и жмурилась от удовольствия… и картина эта мирная была до того благостна, что Иван сам себе удивлялся.
– И с чего начнем? – спросила Иллария, поднимая за зеленый хвостик очередную ягоду.
– Со знакомства.
Идея по-прежнему не нравилась Ивану. Он понимал, что без Лары придется сложнее, но все равно предпочел бы, чтобы она осталась в городе.
В городе безопасней.
– Тогда пошли, – Лара вишню отложила с явным сожалением.
– Куда?
– Знакомиться. Чего кота за яйца тянуть.
Грубо, но по сути верно. Вот только имелся нюанс.
– Надо бы показать тебе всех, но так, чтобы тебя не показывать, – сказал Иван, потерев подбородок, на котором уже пробилась колючая щетина. Был за ним подобный недостаток, сколь ни брейся, а часа через два-три все равно вырастет. Машку это донельзя раздражало. Щетина кололась, Машка злилась, Иван брился… а оно опять.
Не нужно вспоминать. От воспоминаний становится больно. Не уберег. И дурак этакий, не заметил, до чего ей, Машке, с ним плохо. Обыватель… и на мертвых не обижаются.
Лара ждала продолжения.
– Конечно, может статься, этот твой знает, что ты здесь, но если нет, нечего ему задачу облегчать…
– И если это он? – Иллария уставилась темными круглыми глазами.
Аккурат, как вишни вызревшие.
– Если он, тогда и решим.
Иван сомневался, что все будет настолько просто. Он протянул руку и сказал:
– Идем.
Тропой, протоптанной еще в глубоком детстве меж бурьяна и лебеды, в одичалом малиннике, что выбрался за заборы.
…Детская игра в войну.
И взрослая женщина, которая боится. Ее рука дрожит, но Иллария упрямо идет. Шаг за шагом. И могучие листья дудника касаются ее щек, точно утешая.
– Стой, – Иван дернул, и Лара послушно замерла.
Вдвоем присели, прячась за высоким кустом черемухи.
– Это Сигизмунд…
– Не он, – сразу сказала Иллария, выдохнув с немалым облегчением. – Он какой-то…
…Слащавый, лакированный точно. И Ивана всякий раз подмывает лак этот сковырнуть. Детское желание, глупое.
Иван помнил, как Сигизмунд появился в его дворе. Белая шляпа с высокой тульей. Белый же пиджак. Штаны светлые в узкую полоску и широкие подтяжки. Рубашка мятая, но ему Машка потом объяснила, что льняным вещам позволено мятыми быть. Это тренд такой.
Иван в трендах ничего не смыслил.
В руках Сигизмунд держал тросточку и, сняв шляпу, долго перед Машкой раскланивался, вытанцовывал. Пожалуй, был бы хвост, распустил бы, павлин стареющий. Тогда его танцы, его натужные попытки напустить на себя важность, загадочность, намеки на грядущую славу казались смешными.
А Машка слушала с раскрытыми глазами. Ей льстило живого писателя увидеть, и что писатель этот к ручке прикладывается, называет Машку то богиней, то музой…
…Могла бы на него польститься?
И глядя на Сигизмунда, который неторопливо, будто прогуливаясь, шел по улочке, Иван душил запоздалую ревность. Писатель? Да мошенник он, выбравший удобную маску. Но хорош. Моложав. И лицо приятное. Он умеет притворяться, улыбаться, говорить именно то, что женщины хотят услышать… и все-таки не он. Иван не знал, откуда появилась такая уверенность, но и сам выдохнул с облегчением.
А Сигизмунд остановился у старого тополя и постучал тросточкой по коре. Вытащил из кармана часы, бросил взгляд на циферблат… нахмурился… и опять постучал.
Ждет кого-то?
Кого?
И что вообще привело его в деревню? Вряд ли любовь к местным пасторалям. Как-то Иван прежде не задумывался, почему люди в Козлах живут… вот Сигизмунду тут явно не место, а он держится уж который год кряду. Или просто больше негде?
– Мы долго здесь сидеть будем? – прошипела Иллария.
– Сейчас, – Иван нехотя отпустил тонкую ее руку. – Видишь, он ждет кого-то… вдруг да… местный просто помогает твоему?
Мысль очевидная, но только сейчас в голову пришла. И Иллария затаилась, сжалась клубком, приникнув к Ивану. Наверное, она сама того не заметила, и следовало бы отодвинуться, но Иван остался на месте.
– Я не дам тебя в обиду, – пообещал одними губами.
А она услышала и ответила:
– Спасибо.
Меж тем на дороге появилось новое действующее лицо, которое внушало Ивану самые противоречивые чувства. Вовка шел быстрым шагом, держа за руку тонкую рыжеволосую девчонку, которая за Вовкой не поспевала. Она бежала, останавливалась, дергала, пытаясь руку высвободить, но Вовка держал крепко.
И не оборачивался.
– Это внук бабы Гали, – сказал Иван, и с удовольствием отметил, что Иллария покачала головой. Значит, не Вовка.
Нет, Вовка еще тот поганец, Иван помнит, как дрались с ним. Но когда это было? Давно, когда Иван учился в школе. В младших классах. И в средних тоже. И в старших еще, но там по-серьезному, из-за девчонки. Дуэль на кулаках и секунданты. Горький песок и нос разбитый. Кровь льется и никак не останавливается, а губы не слушаются.