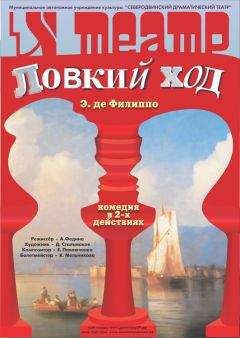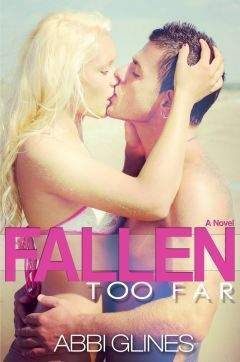Эдуардо Сачери - Тайна в его глазах
— Не валяй дурака, Зиммерман. С этой тупой рожей — и с приказом об аресте за убийство? Он что, из этих парней из Монтонерос или вроде того? Я пошел домой. Сил моих больше нет.
Его ненавязчиво поприветствовало несколько человек. Пока шел до остановки 644-го, Петруччи подумал о том, что в конце концов день закончился не так уж и плохо. Он выплеснул зло на этого придурка, получил четыре дня отдыха, которые как раз нужны, чтобы закончить стяжку на полу в задней комнате. Нос слегка побаливал: как сказал врач, ему дали несколько обезболивающих, которые подходят разве что лошадям. Да и «Расинг» рано или поздно опять станет чемпионом. Сколько до этого осталось?
Он сел в автобус. В кармане нащупал бумажку, которую ему дал Авалос. «Имя того парня», — сказал он тогда ему. В тот момент он не обратил внимания, а сейчас стало любопытно. Он развернул листок: «Исидоро Антонио Гомес». Петруччи смял бумагу в комок и позволил ей упасть на замусоренный пол автобуса. Потом устроился поудобнее подремать несколько минут, осторожно, чтобы не уткнуться носом в стекло, а то звезды из глаз посыплются или кровь опять пойдет.
20
Он сидел передо мной, и ко мне опять вернулись сомнения: а не соорудил ли я тут замки на песке? Ну мог ли быть виновным этот парень с приятным выражением лица, который стоял передо мной, слегка расставив ноги, расслабленно, как будто его совсем не беспокоило то, что руки его были скованы наручниками за спиной?
Многие задержанные после двух или трех дней почти без движения и без общения, изнывающие от отвращения к тюремной еде и грязи, все больше и больше накручивают себя и принимают в конце концов облик жертвы, послушной капризной воле своих охранников. А Исидоро Антонио Гомес — нет. Конечно же заточение, длившееся с понедельника, оставило свои следы: успевший уже впитаться в кожу запах немытого тела, тень от щетины, кеды без шнурков. И это не считая гипса на правой руке и позеленевшей гематомы над правой бровью, оставшейся после стычки с агрессивным контролером железной дороги Сармиенто.
Мои сомнения становились все сильнее. Может ли человек оставаться таким спокойным, зная, что его обвиняют в убийстве? Он даже не обращал внимания на причину, по которой его задержали и доставили в Суд для дачи показаний. Ведь еще существовала вероятность, что он верил, будто все это — лишь раздутое донельзя дело о безбилетном проезде и драке с официальным лицом. Я сказал себе «нет»: за милю было видно, что малый смышленый. И должен знать, что он здесь по другой причине. Но как тогда объяснить, что он оказался втянутым в такой скандальный инцидент? Поэтому я заключил: или он невиновен, или же он вероломный сукин сын.
Мои мозги работали со скоростью тысяча оборотов в час: если он был невиновен, почему тогда слинял в конце 1968-го; а если был виновен, почему позволил себя задержать из-за такого глупого инцидента?
На следующий день новость о задержании Гомеса ждала меня в Секретариате. Баес лично подтвердил мне это по телефону. Мы решили помариновать его пару дней, до четверга, в основном для того, чтобы дать мне время подумать: как же, мать его, построить этот допрос? Это мы долго и со всех сторон обмусоливали с Сандовалем. Был ли у меня под рукой кто-то еще, хотя бы с половиной его способностей к дознанию?
За эти три года в Суде мало что изменилось. Мы избавились от этого недоумка секретаря Переса (его повысили до официального защитника), хотя потеря нашего шефа оставила нам горькое послевкусие, подтверждая ту истину, что врожденная глупость, которую он нес, как знамя, видимо, способствовала продвижению со скоростью метеора по служебной лестнице. С доктором Фортуной Лакаче нам так не повезло. Он все еще был нашим судьей и продолжал оставаться придурком. Что еще хуже, шел уже 1972-й, и быть знакомым Онгании уже означало отсутствие эффективной поддержки на пути продвижения в Апелляционную Палату. Да уж, в самый звездный час усатого генерала (Онгании. — Пер.) Фортуна не смог совершить решающий прыжок, а теперь это уже стало практически невозможным. Поэтому он и остался, словно овощ на грядке, на своем обычном месте. Хорошей новостью было то, что его склонность к позерству, особенно перед лицом насилия, пропала без следа. Мы могли спокойно работать, он подписывал там, где ему указывали, и перестал бессмысленно гонять своих просекретарей на все места преступлений по делам об убийствах. Это было удачей, потому что к тому времени Аргентина уже оказалась заваленной трупами.
Из-за всего этого, что Сандоваль в шутку называл «нашим сиротством вследствии отсутствия компетентных лидеров», мы смогли спокойно сесть и перечитать дело, которое застопорилось еще с декабря 1968-го, три с половиной года назад, сразу после выхода приказа о задержании. А он сработал только в прошлый понедельник на станции Флорес.
Сандоваль, в настоящий момент переживающий один из самых долгих периодов трезвости, о которых я только знал, заключил с железной логикой:
— Если он виновен… не знаю, Бенжамин… если он только сам затянет себе петлю на шее в своих показаниях, иначе мы пролетаем.
Это было больно, но это было правдой. Что у нас на самом деле было для того, чтобы проводить его по делу о квалифицированном убийстве? Вдовец обвинял его (подложно, так как эту фальшивку нам пришлось соорудить, чтобы Фортуна не завернул нас с подписанием приказов для полиции) в том, что он посылал его жене письма с угрозами, которых не существует. Некоторые данные о полицейских расследованиях, отправленные Баесом, в которых значилось, что Гомес покинул место своего пребывания и работу за несколько часов до проведения дознавательных действий полиции в этих местах. Карточка со стройки с отметкой о выходе персонала на работу, в которой значится, что в день смерти Лилианы Эммы Колотто де Моралес он сильно опоздал на работу. Все это было чушью. У нас не было совершенно ничего, и даже самый великий идиот среди адвокатов разнесет нас в пух и прах с нашей идеей временного задержания, как только подаст апелляцию в Палату. И все это в случае, если мы добьемся, чтобы Фортуна подписал нам резолюцию. Это так, заметив по ходу.
Наверное, поэтому я даже не потрудился позвонить Моралесу. Зачем его предупреждать? Чтобы он увидел, как мы освободим единственного подозреваемого, который появился у нас в течение этих трех лет? Того самого подозреваемого, которого он продолжал искать (а я в этом уверен) по всем вокзалам посменно, с понедельника по пятницу?
Я приказал привести Гомеса в кабинет секретаря, который был пуст. Нам еще не назвали преемника Переса, и сейчас все бумаги подписывал секретарь из 18-го отдела. Мне не хотелось свидетелей. Почему? Я сам не знал, но не хотел. Так что я приказал, чтобы меня не беспокоили и не прерывали. Я вошел в кабинет вслед за Гомесом и охранником, который вел его за руку. Я попросил охранника снять с него наручники. Гомес сел напротив стола, закинув правую ногу на левую. «Уверен в себе, твердолобый», — подумал я. Его спокойствие было нехорошим знаком.
В этот момент я услышал, как в соседнем кабинете открылась дверь, распевно прозвучало «добрый день», от чего у меня волосы встали дыбом. Не может быть. Не может. Сандоваль чуть приоткрыл дверь, заглянул в кабинет, в котором мы расположились, и повторил свое радостное приветствие в сопровождении широченной улыбки. И хотя он сразу же исчез в общей конторе, я замер на какое-то время, все еще продолжая смотреть на дверь, из-за которой он выглядывал. «Ну, мать твою, выродок», — сказал я про себя. Он был на рогах. Не причесан, не брит, одежда со вчерашнего дня, одна из пол рубашки выбилась из брюк. Хотя зачем-то он заглянул и поздоровался со мной. Я видел его всего лишь мгновение, но мне этого хватило, чтобы все понять — за столько лет работы вместе… Я попробовал вспомнить предыдущий вечер. Разве я не удостоверился, выглянув в окно и увидев, что он направляется домой, а не в бары Бахо? Или все мои мысли были заняты сегодняшним днем и у меня это вылетело из головы? Теперь уже неважно. Мы пропали.
Я заправил бумагу в печатную машинку, которую притащил сюда с моего стола. Не стоило изменять своим самым элементарным привычкам. «Город Буэнос-Айрес, двадцать шестого дня месяца апреля 1972 года…»
Я остановился. Сандоваль стоял в дверном проеме, словно ожидая меня. Я испепелил его взглядом. Он же не собирается в таком состоянии участвовать в допросе… Он был таким козлом, что перечеркнул все семь месяцев воздержания, а теперь ему еще наплевать и на то, что он загадит дело, которое так много для меня значит. Он был в состоянии, в котором не мог связать больше трех слов из двух слогов, так пусть хотя бы забьется куда подальше и даст мне сделать с Гомесом все, что будет в моих силах. Или он понял мой жест, или головокружение посоветовало ему сесть за свой письменный стол, но именно это он и сделал. Я взглянул на Гомеса и на охранника. Они не обращали внимания ни на мое растущее отчаяние, ни на ситуацию в целом. В любом случае, должен признать, что напивался Сандоваль благородно. Ничего такого вроде икоты или нетвердой походки, когда человек ходит зигзагами и все время наталкивается на мебель. Его внешний вид был как у достойного сеньора, который по причинам, далеким от его доброй воли, был вынужден спать на улице в непогоду.