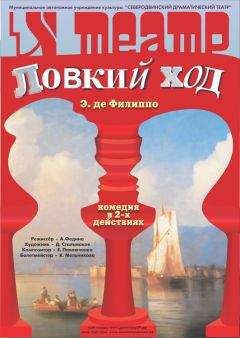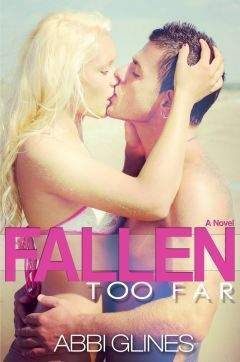Эдуардо Сачери - Тайна в его глазах
— По четвергам я здесь. По понедельникам и средам — на Конститусьон. По вторникам и пятницам — на Ретиро. — Время от времени его взгляд задерживался на ком-то из прохожих. — В этом месяце такой график. В мае поменяю. Я его каждый месяц меняю.
По громкой связи хриплый голос, растягивающий слова и глотающий «с», объявил об отправлении скорого до Морона в 19.40 с четвертого пути. Хотя я и не собирался на нем ехать — не хотелось стоять всю дорогу, — мне это показалось удобным предлогом, чтобы встать и попрощаться. Меня остановил голос Моралеса, который без всяких преамбул продолжил свою речь:
— В тот день, когда он ее убил, Лилиана мне приготовила чай с лимоном. — Я заметил, что глагол «убивать» он теперь склонял в единственном числе, а не во множественном, как раньше, — «ее убили», потому что теперь у него в голове убийца имел лицо и имя. — «От кофе тебе будет плохо, тебе нужно его пить меньше», — сказала она мне. Я ей ответил, что она права. Мне нравилось, как она обо мне заботилась.
Я заподозрил, что опоздаю не только на поезд со всеми остановками до Кастеляра, который отходил без десяти, но и на многие другие.
— И кроме того, если бы вы ее видели. — Он внимательно посмотрел на низкорослого юнца, который проходил мимо витрины напротив, но быстро отклонил его кандидатуру и приступил к поискам новой цели. — Каждый раз, когда мой отец смотрел какое-нибудь дефиле моделей или конкурс красоты, всегда говорил, что этих девушек, чтобы проверить, что они действительно красивы, надо бы увидеть с утра, как только они проснулись, без макияжа. Я никогда ей этого не говорил, но всегда первое, что я делал, проснувшись, это смотрел на нее, чтобы проверить теорию моего старика. И вы знаете? Он был прав. По крайней мере, по поводу Лилианы.
Ужасный голос объявил об отправлении поезда в 19.55 до Кастеляра, со всеми остановками. Я вспомнил черты лица девушки — и подумал о том, что Моралес ни капли не преувеличивал, говоря о ее красоте. Уже действительно было поздно, но теперь у меня пропало желание подниматься с табурета. По крайней мере до тех пор, пока я не найду название для того чувства, которое зарождалось у меня внутри. Сострадание? Грусть? Нет. Это было что-то другое, но я никак не мог определить что именно.
— И знаете, что самое ужасное?
Я посмотрел на него и не знал, что сказать.
— То, что я начинаю забывать ее.
Его голос потеплел. Я не поступил безрассудно и не прервал его.
— Я думаю о ней, и думаю, и думаю целый день. Просыпаюсь среди ночи от бессонницы и вспоминаю ее. Но я вспоминаю постоянно одни и те же вещи. Те же самые картинки. Так что же я помню в итоге? Ее или все эти воспоминания, которые я сам соорудил за этот год с лишним, с тех пор как она погибла?
Бедняга. Почему в своих мыслях я не мог продвинуться дальше этого «бедняга», которое было словно этикетка без цены.
— Вы знаете, я хотел покончить с собой. Иногда встаю с утра и думаю о том, какого черта я жив.
К этому моменту я сам уже начал спрашивать себя, какого черта живу. Что я мог ему ответить? Но, с другой стороны, имел ли я право молчать после такой исповеди, после того страдания, которое он выплеснул на меня? Я сказал первое и единственное, что пришло мне в голову:
— Может, вы продолжаете жить, чтобы все-таки поймать этого сукиного сына, который ее убил… — Я подумал и почувствовал себя обязанным добавить, дистанцируясь от его фанатичной уверенности: — Гомеса или кто бы он ни был.
Моралес обдумывал мой ответ. По привычке или же следуя своему методу, продолжал разглядывать людей, торопившихся по направлению к платформам. Наконец ответил:
— Думаю, что да. Думаю, что поэтому.
И замолчал. Я тоже. Если поиски заставляли его продолжать жить, то это было уже что-то. В любом случае, его усилия уже заранее были безрезультатными. Если Гомес был невиновен, то невозможно его в чем-то обвинить. А если убийцей все же был он, то сложно представить, как мы сможем его задержать. Этот тип знал, что его ищут, — и как найти его в этом океане людей? Если рассматривать дело с этой точки зрения, то навязчивые выслеживания Рикардо Агустина Моралеса на вокзалах города выглядели до умиления наивными.
— Вы все еще живете в Палермо? — спросил я, только лишь бы спросить хоть что-то.
— Нет. Квартира все еще за мной, но я живу в общежитии в Сан-Тельмо. Мне ближе к работе и… ко всему этому, — добавил он так, словно ему было сложно дать название этой странной охоте.
Я попрощался, сказав, что, если будут какие-либо новости, я сразу же свяжусь с ним. Протягивая мне руку, он посмотрел на часы и увидел, что ему тоже пора. Вытащил из кармана помятую банкноту и оставил ее на барной стойке. Мы вышли вместе, но через несколько шагов он дал мне понять, что ему в противоположную сторону. Мы вновь пожали руки друг другу.
Я направился в сторону поездов. Контролер пробил мой билет. Один из поездов собирался отходить — Флорес, Линьерс, Морон, потом со всеми остановками. Мест не было. Все равно я вошел. Я только что решил, что мне как можно раньше нужно домой. Хотя и не целиком, но мне все же удалось дать определение тому, что я почувствовал, пока слушал Моралеса. Это была зависть. Любовь, которую переживал этот человек, будила во мне непомерную зависть, несмотря на то что трагедия, в которой потонула эта любовь, несомненно, вызывала сострадание. Я стоял неудобно и держался за одно из колец в проходе, и меня мотало из стороны в сторону в такт движению поезда, и я знал, что сейчас с остановки дойду пешком до дома, скажу Марселе, что нам надо поговорить, и сообщу ей о своем решении развестись. Скорее всего, она посмотрит на меня с удивлением. Без сомнения, такая программа никак не входит в логическую цепочку этапов, по которым она распланировала свою жизнь. Я скажу, что сожалею, потому что мне никогда не нравилось причинять другим боль, но я только что понял, что причиню ей гораздо больше боли, оставшись с нею.
Когда я пришел домой, Марсела ждала меня с накрытым столом. Мы проговорили до двух утра. На следующий день я собрал кое-какие вещи и пошел искать общежитие, постаравшись, чтобы это было не в Сан-Тельмо.
19
Прошло больше двух с половиной лет до 16.45 понедельника, 23 апреля 1972 года, когда двери остановившегося на втором пути поезда на станции Вича Люро, находившиеся под присмотром контролера Сатурнино Петруччи, захлопнулись перед самым носом толстой и пожилой сеньоры. Высунувшись из вагона, контролер погладил кнопку «свистка», но не стал ее нажимать. Вместо этого нажал «открыть». Все двери состава вновь с лязгом открылись, и женщина, радостная, впрыгнула с платформы в вагон и тут же плюхнулась на пустое место на лавочке.
Контролер Сатурнино Петруччи — в серой униформе, с густыми усами с проседью, с приличным животом — обрадовался тому, что позволил себе впустить толстуху и взять с нее штраф уже в поезде. Как ему могла прийти в голову такая подлость? Пришла в виде способа мщения. Но не толстухе, которой он даже не знал, а всему миру в целом. Он страстно жаждал отомстить всему свету, потому что обвинял весь свет в своем мрачном настроении, в котором он пребывал с позапрошлого вечера, точнее, с воскресенья. И своим мрачным настроением он был обязан, не более и не менее, поражению клуба «Расинг» с Авечанеды. То есть он собирался омрачить вечер бедной женщине, и все из-за футбола. Этот проклятый, этот вечный футбол.
Петруччи чувствовал себя идиотом из-за того, что результаты его команды способны так испортить ему настроение. Но чувствовать себя идиотом не означало избавиться от горечи. Почти наоборот: чувствовать себя идиотом означало еще более отвратительное настроение. Огромная боль, которая была такой же реальной, как и физическая, грязная боль, несправедливая, она была слишком большой, чтобы взгромоздиться на его широкие плечи матерого футбольного болельщика. Разве больше никогда не вернутся светлые годы его молодости, когда «Расинг» уставал от побед? Он считал себя человеком терпеливым и благодарным. Не хотел быть таким, как эти невыносимые болельщики из лож, которые требовали успеха за успехом, чтобы чувствовать себя удовлетворенными. Для него хватало и меньшего. Но даже «команда Хосе» уже становилась всего лишь воспоминанием. Сколько лет уже прошло после гола, забитого Карденас, и того чемпионата мира? Пять. Пять долгих лет. А если пройдет еще пять? А потом еще десять без звания чемпиона для «Расинг»? Боже милостивый. Ему даже думать не хотелось об этом, словно он мог навлечь еще больше неудач.
Этот понедельник начался со всех признаков поражения: заголовки газет, шутки в офисе контролеров, насмешливые взгляды пары машинистов. Это была сдержанная злоба, медленно сочившаяся, которая почти превратила толстуху в его жертву. Он посмотрел в окно двери следующего вагона. Он доезжал с этим составом до Онсе и возвращался скорым. Он вздохнул и прочистил горло. Кажется, он набрал достаточную дозу спокойствия, чтобы освободить женщину от своей бесполезной мести, но мстительное настроение еще его не покинуло. Он не хотел возвращаться домой со всей этой злобой, потому что он был хорошим отцом и хорошим мужем. Тогда он решил выместить это зло самым честным образом, преследуя «зайцев».