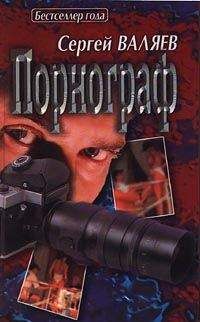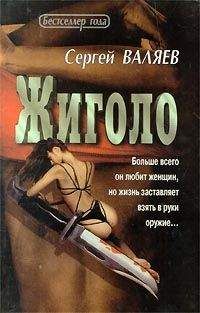Сергей Валяев - Тарантул
Потом мы присели на самодельную скамеечку под скосившимся забором. Иван закурил. В пыли лежали куры, как солдатские пилотки.
— Что-то не так? — спросил я.
— Тут тако дело, Леха, — сказал Иван. — Тебе для ориентаци, так сказать…
— Что?
— Страсти у нас всяки, — пыхнул дымом, посмотрел в небо. — Вообчем, Зинка, невеста нынешня, гуляла до армии с Ваней… И вроде как забрюхатила…
— И хорошо, — сказал я.
— Не очень-та. Ваня в армию, а она с другим. С Петюхой…
— Женихом?
— Ага, — вздохнул. — А тетка Маня, ну, маманя Вани: женихайтесь, а дятя, как уродитца, збираю я.
— И что?
— А Петюха, что дятя его, и Зинка ему об энтом…
— Ну, — почесал затылок, — какое-то у вас латиноамериканское Залипухино?
— А то, — согласился Иван. — Живем вроде у кино. У нас ж бяда, когда энту мандю мылять на экране, коров бабы не доють.
По дороге трещал старенький кургузенький «Беларусь». Измызганный тракторист, чертом прыгая на высоком сидении, проорал нам с веселым исступлением:
— А свадьба пела и плясала. И было этой свадьбе места мала-а-а!..
— Свадебка-то будет мордобойная, — заметил я.
— Это уж, как повернеца, — философски заметил Иван. — Все зависить от людей.
— Люди — наше богатство, — усмехнулся я.
— Как урожай, — уточнил Иван, — в закромах родины.
… Встречал нас брёх дворняжки — мелочилась под ногами, когда мы проходили по летнему дворику. Иван гаркнул:
— Цыца, Цезарь, мать твою римску так!
Песик чихнул, и наступила тишина — мы прошли к дому. Он был старым, краска облупилась и висела лохмотьями.
— Тетка Маня, — крикнул Иван, — энто мы!
— Кто там? — дверь скрипнула. — А ребята, — на пороге появилась женщина небольшого росточка с покрытой темным платком головой, похожая на школьную сельскую учительницу. Впрочем, она ею и работала. Лицо было неестественно постаревшим.
— Это Алеша, тетка Маня… А хозяин-та где? На уборке?
— Да, — протянула руку. — Здравствуй, Алеша.
Рука мамы моего друга была холодна, как Город, где погиб её сын.
Потом я один сижу в сумрачной комнате. Это комната Вани Стрелкова. Он здесь жил. На стенах — любительские фотографии. Окно задернуто шторами, и от сумерок фотографии кажутся размытыми. Как наши судьбы.
Мы с Ваней дали слово друг другу, что если вдруг что-то случится… Это немилосердно к живым, но это нужно им, павшим… Это нужно тем, кто выжил и вернулся из того, простреленного мира.
Потом мой голос заполняет пространство комнаты, мой голос глух и спокоен. Никогда не подозревал, что о смерти можно говорить так спокойно. Я бы возненавидел человека, который так спокойно рассказывает о гибели своего товарища, если бы этим человеком не был я сам.
Когда ты не один, надо сдерживать свои чувства?
Я не говорю всей правды. Зачем такая п р а в д а матерям? Я хочу быть милосердным к живым…
— А нам, Алеша, — улыбнулась женщина, — прислали медальку. За мужество, что ли, Ванино? Сначала его, мертвого, а потом медаль. Такая легкая, как оловянная. Верно, все хорошее железо ушло на гробы, так?
— Ладно, тетка Маня, — Иван обнял её за плечи. — Ты ужо прости нас, что встревожили.
— А как можно мертвую встревожить? — смотрела сухими, выплаканными глазами.
— Ты это брось, тетка Маня, — сказал Иван. — Ты живее всех живых.
— А чувствую себя, как мертвая, — улыбнулась. — А мертвые сраму не имут. Так, Алеша?
— Да, — ответил я.
Я был живой. И несмотря на то, что был живой, я ничем не мог ей помочь. Быть может, я тоже был мертвым?
Я хотел уехать из Стрелково. И попытался объяснить, что утром — на кладбище, а вечером — на свадьбу, это как-то странно, неправда ли? На что Иван отвечал: в деревне живут практичные люди, это мы, городские, всякие душевные враки допускаем, а здесь куда все проще… И я остался.
Само торжество началось с оглушительного, остервенелого лая окрестных собак, встречающих праздничный кортеж залипухинского жениха. И псов можно было понять: создавалось впечатление, что в воздушных сумерках двигается бронетанковая колонна.
Когда вселенская пыль и тишина легла на деревню, началась невероятная сумятица у дома невесты — во дворе и вдоль забора были выставлены столы, которые с энтузиазмом оккупировали гости. Рядом с новобрачными садились старшие в нафталиновых одеждах, затем шли ядреные, крикливые бабенки и мужички с крепкими пропойными физиономиями, далее теснились молодежные стайки, и ещё дальше — галдели детишки.
Я оказался зажатым между Иваном и… Алисой. Она все время находилась где-то в сторонке, а затем неожиданно оказалась рядом со мной.
— Привет, — улыбнулась. — Погуляем, Леха?
— Ужо как случитца, — вдруг перешел на местный говорок. Наверно, от смущения?
— Ужо гульнем, — пообещал Иван.
Я никогда в жизни не видел такого количества бутылей с самопальной брагой. По-моему, на каждого, включая младенцев, приходилось литров сто.
— И это выпьют? — задал глупый вопрос.
— Еще мало будет, — засмеялась Алиса. — Что желаете?
— Желаю винегрет.
— Пожалуйста ваш винегрет…
Она сидела рядом, и я чувствовал её энергичное, насыщенное животным желанием, тело. Я сделал вид, что более всего меня интересует винегрет из свеклы, как овощ полезный для пищеварительного тракта.
Скоро бестолковый толк за столами умолк: по мерцающей пыли шла тетя Маня в черной шали. В её появлении таилось нечто ужасное и запредельное этому парадному миру, что никто не посмел остановить женщину. Она приблизилась к молодым — те, как обреченные на погибель, поднялись. Невеста в фате девственницы сложила руки на барабанный свой живот, словно защищая его. Жених — худощавый переросток в пиджаке с чужого плеча был готов разрыдаться в голос.
Мать моего павшего друга аккуратно взяла со стола наполненный стакан, опустила в него медаль, которую она получила за жизнь сына, и тихо проговорила:
— Горько!
Если бы она закричала, это было понятно. Но проговорила тихо, и в голосе её прозвучала такая смертельная мука и боль, что все, как один, встали и в мертвенной синей тишине вечера выпили за её сына, обрученного навсегда со смертью.
Мы знали — нас ждут. Мы не одни на белом свете — нас ждут. И тут как повезет: кому оловянную медальку за гибель сына, кому истерзанную плоть его, а кому искалеченную его душу…
Свадьба пела и плясала. И была в ней невыносимая тоска, точно у каждого открылась кровоточащая рана, и чтобы истребить её боль, бабы и мужики заглатывали водку с остервенелым ухарством.
Вскоре над вечерним свадебным торжеством завис странный, гнетущий стон из плача, мата, проклятий, смеха, детских криков и музыкального рева. Возникало впечатление, что пространство праздника затягивается тяжелым и удушливым облаком. Лица людей искажались, точно они задыхались; ором пытались помочь себе, но тщетно. Потом зажглись фонари на столбах и я увидел тени — они мелькали в своем бессильном исступлении.
Наконец случилось то, что должно было случиться. У автомобилей и тракторов захороводилась драка, распространяющаяся со скоростью пожара в сухом валежнике. Завизжали бабы и молодки. Захрипели мужики. Захрустели кости… Я сидел за столом и ковырялся в винегрете. Алиса смеялась.
— Ты что, Алеха! — выбежал из боя Иван в рваной рубахе, заглотил стакан бражки. — Бей залипухинских!
— А где, кто? — поднимался из-за стола.
— Бей всех, да не убивай, — и рванулся в дело.
— Сиди, — Алиса потянула меня за руку. — Это у них такая народная игра, Алеша.
— Я тоже хочу поиграть, — и, освободив руку от дамского захвата, шагнул в напряженное ночное пространство.
Варево из человеческих тел стонало, хлюпало кровью, горланило, надсаживалось. Я почувствовал ненависть ко всему этому пьяному, невменяемому сброду, развлекающемуся таким традиционным способом. Ненависть залила мои клетки свинчаткой, и я начал работать по теням, как был научен добросердечными своими командирами 104-ой дивизии ВДВ. Бил и не чувствовал боли. Били меня и все равно не чувствовал боли.
Было такое ощущение, что пробиваюсь сквозь плотную телесную ткань, рвущейся под жестокими и свирепыми ударами. И с каждым удачным ударом ощущал, как в меня возвращается сила, беспощадность и гнев.
Я разбивал кулаки о невидимые хрипящие рабские рожи, и боли не чувствовал. Я разбивал кулаки о тени, не чувствовал боли и понимал, что вновь вернулся на войну.
Народное кулачное побоище закончилась тем, что залипухинские с проклятиями и позором отступили в ночь. И ночь заглотила их, как тени вбирают слабых людей. А растерзанные и битые победители вернулись за столы.
— Леха, — горланил Иван. — Ты чяго своих дубил?.. Бей своих, чтобы чужие боялися? Ха-ха!
— Сам сказал — бить всех! — передернул плечом.