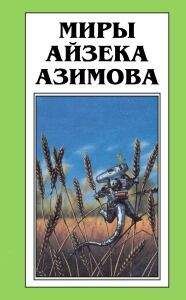Александр Чернобровкин - Мера прощения
Я быстро нашел нужного мне вьетнамца. Маклаки всех стран похожи, носят на лице маску бесстрастности, довольно дырявую, а из дыр так и лезут наглость, жадность и трусость. Короткий разговор на «боди ленгвидж» – языке жестов, разбавленном небольшим количеством английских и русских слов, и взамен утюга у меня появилась толстая пачка донгов, которой хватит на несколько довольно веселых деньков. Не все на судне имеют склонность к подобного рода операциям, уверен, что Дед, прошедший идейно-политическую закалку на кораблях военно-морского флота, не сумеет фарцануть даже по приказу. Поэтому, переодевшись, иду к нему.
В каюте у старшего механика полумрак – несмотря на ошвартовку к причалу, «подводная лодка» все еще в боевом походе. Хозяин сидел за столом, курил, глядя на документы, разложенные веером. Что он мог увидеть в полумраке – понятия не имею. И вообще, удивительно было, что стармех занимается бумагами. Мне казалось, что он только пьет, спит, ест и изредка раздалбывает механиков и мотористов, обращаясь к ним на вы и не употребляя сокровенных богатств русского языка.
– По случае возвращения на землю имею честь пригласить вас в местный ресторан, – объявляю я официальным тоном. – Отказы не принимаются ни в какой форме.
– Видите ли... – начинает стармех, растягивая слова.
Хочет поставить меня в известность о наличии отсутствия наличных. Как будто я не знаю!
– Я угощаю, – перебиваю его, – долг платежом красен. Десять минут на сборы хватит?.. Жду вас у трапа.
Я заметил, что на берегу моряки ходят очень быстро, и чем дольше ходят, тем быстрее. Наверное, привыкают к сильному электромагнитному судовому полю, и на берегу им начинает чего-то не хватать, а нехватка этого чего-то вызывает чувство беззащитности. Еще сильнее это чувство проявляется, когда попадаешь в многолюдный, шумный город. Похожие друг на друга, низкорослые, черноволосые, смуглолицые людишки, переполнив улицы, куда-то идут и едут на велосипедах. Интересно было бы узнать, куда они идут или едут? На работу, что ли? Или это у них работа такая – шляться по улицам?
Припортовой ресторан, в который мы с Дедом зашли, явно знал лучшие времена. Он и сейчас ничего, но это уже хорошо сохраненное старое. Согнувшийся в поклоне пожилой, с морщинистым лицом официант, похожий на одетую обезьянку, скорее всего, тоже из лучших времен. Он проводил нас к столику, помог сесть. Столик стоит на открытой террасе, окруженной нешироким рвом, в котором медленно плавают большие рыбины, а дальше – клетками со зверьем и птицами. Прямо напротив нас резвятся обезьяны, похожие на раздетого нашего официанта, а в соседней с ними клетке сидит, просунув нос между прутьями, черный медведь с белой «манишкой». Медведь пристально смотрим на нас, принюхивается, шумно втягивая воздух, а потом издает звук, одновременно похожий и на рычание, и на скуление. Наверное, у него аллергия на бледнолицых. Заметив мой недовольный взгляд в сторону хищника, официант подобострастно улыбается и объясняет на приличном английском – капиталистическая выучка, – что зверь неопасен, клетка надежна. Потом он показывает на ров и предлагает выбрать рыбину. Я тыкаю пальцем в самую большую. Тут же второй официант, по моему мнению, мальчишка лет пятнадцати, ловит ее сачком и несет на кухню. Рыбина не помещается в сачке, хвост ее молотит мальчишку по рукам и груди. Пока ее готовят, первый официант приносит ламойку и закуски к ней: салат из недозрелой папайи и проросшего горошка, жареное мясо и креветки.
– Будем здоровы! – произношу я тост, наполнив рюмки тягучей мутноватой водкой.
– Будем, – мрачно соглашается Дед, а выпив, вытирает носовым платком лицо и шею. Рубец белого воротничка его рубашки посерел от пота. Ему жарко в костюме и галстуке, но я знаю, что мой совет снять пиджак и галстук останется без внимания.
Кроме нас в ресторане сидит компания из восьми человек, не белые, но и не вьетнамцы, наверное, с либерийского судна, которое разгружается неподалеку от нашего. Они пьют пиво из банок и о чем-то спорят, размахивая руками. А может, и не спорят, может, у них такая манера разговаривать на обыденные темы. Один из них жестом подзывает официанта, дает ему банку пива и показывает на медведя. Вьетнамец несколько раз кланяется и идет к клетке.
Зверь берет банку лапой и, запрокинув голову, совсем по-человечески, выпивает пиво. Пустая банка летит в ров, откуда ее вылавливает официант, а медведь отступает вглубь клетки и ложится на брюхо, мордой к обезьянам. Тем не понравилось, что угостили не их, визжат и швыряют в хищника банановой кожурой. Но мишка не сердится на завистливых соседок, рычит благодушно, словно его поглаживают за ухом.
Я подзываю официанта, интересуюсь, употребляет ли хищник водку.
– Да.
– А обезьяны? – спрашивает старший механик, и трудно понять, шутит или всерьез.
– Нет, – извиняющимся тоном отвечает официант. – Они глупые.
Дед заинтересованно смотрит на официанта, а затем кивает головой, то ли соглашаясь с ним, то ли оценив ответ.
Я наливаю полный фужер водки, грамм сто пятьдесят, и приказываю отнести зверю. Прибегает официанта-мальчик с подносом, ставит на него фужер и церемонно, будто местному князьку, несет медведю. Тот встречает официанта стоя, с протянутой между прутьями лапой. Водку выпивает залпом и возвращает фужер на поднос. Зверь, а знает разницу между фужером и банкой.
«Либерийцы» захлопали в ладошки и закричали все разом: один – медведю, остальные – мне. Наверное, что-то дружественное, потому что улыбались. Я помахал им рукой и налил Деду и себе еще по рюмке:
– За пьющих медведей!
Вскоре нам принесли зажаренную рыбину, порезанную на тонкие ломтики и обложенную овощами и травами. И на вид, и на вкус она была великолепна. Мы лакомились ею под водочку и наблюдали за медведем, которого здорово развезло. С настырностью русского пьянчуги он лез брататься с обезьянами. Соседки не верили в доброжелательность его намерений, скакали по клетке, визжа и швыряясь банановой кожурой. Вдруг, как по команде, две, подобравшись к медведю слева и справа, схватили его за уши и притянули морду вплотную к решетке, отчего нос просунулся между прутьями, а третья, с разгону, в прыжке, заехала пяткой по черному поблескивающему шнобелю. В момент удара первые отпустили уши, и медведь, отлетев на метр, шлепнулся на задницу. Обезьяны победно завизжали в одну глотку и так шустро запрыгали по клетке, что казалось, будто состоят из одних красных задов. Примерно так же вели себя за «либерийским» столом.
Я, желая утешить медведя, послал ему фужер водки. Вторая доза сшибла его с ног получше обезьян. Вскоре он валялся на спине посреди клетки, раскинув лапы, и напоминал перебравшего гуляку, который, встав из-за стола, позабыл снять с груди салфетку. И совсем по-человечески храпел. Храп жутко раздражал обезьян – они прыгали и визжали возмущенно, однако вскоре успокоились, видимо, поняли, что медведя теперь не достанешь ничем.
Мы со старшим механиком оказались покрепче медведя, не упали даже после второй бутылки. Правда, по неясным мне причинам очутились за «либерийским» столом. Ребята действительно были с либерийского судна, но родом из Панамы. А может, один был панамец, а остальные из более глухих дыр. У капиталистов часто так бывает: флаг либерийский, хозяин греческий, капитан итальянский, комсостав югославский, а рядовой состав африканский или латиноамериканский. Откуда бы они ни были, а хлопцы славные, пили наравне с нами. Впрочем, угощали-то не они, а на халяву даже трезвенники пьют как кони.
В порт мы возвращались все вместе, в обнимку, поддерживая друг дружку. Две ноги – хорошо, а двадцать – устойчивее. Панамцы приглашали зайти к ним, принять еще по рюмашке, но пограничник у трапа – маленький, худой, с автоматом Калашникова, похожий на мальчика, играющего в войну, не пустил нас с Дедом. Покрыв пограничника матом на трех языках – русском, испанском и английском, мы разошлись по своим судам.
Поднялись мы по трапу – ноги сами понесли меня к каюте буфетчицы. Хорошо, старший механик перехватил и завернул к себе. Понимаю, что беспокоился он не о моем моральном облике, а о бутылке водки, прихваченной по пути в порт. Все равно, правильно поступил. Ничего путного из моего визита к Раисе не получилось бы. Нельзя приходить к женщине пьяным вдрызг. Спьяну чего только не наговоришь, а она, дура, возомнит о себе слишком многое. Чтобы баба любила тебя, надо ее постоянно втаптывать в грязь, лишь иногда, делая одолжение, поднимать до себя. Точнее, под себя. А пьяным толком не сделаешь ни того, ни другого. И я пошел за старшим механиком, который помог мне справиться с искушением. Настоящий мужчина и отличается тем, что может наступить себе на конец: человека, не имеющего желаний, рабом не сделаешь.
В каюте старший механик первым делом отключил телефон.