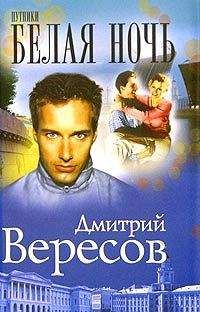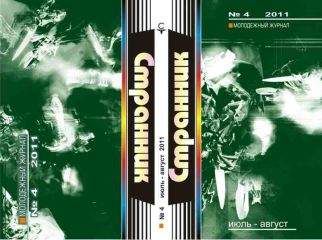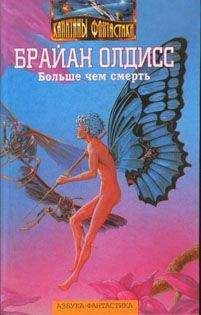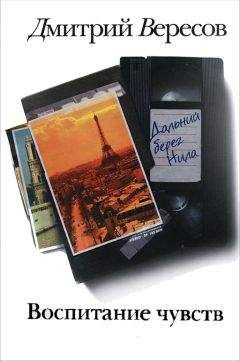Дмитрий Вересов - Загадка Белой Леди
Свет померк для Глеба. Он понимал, что отныне все кончено, все потеряно, все погублено. Слуги этого райского ада переиграли его. Несчастный архитектор рухнул на пол безвольным мешком. Чистое светлое лицо Епифании на секунду вновь возникло перед ним, но теперь оно было покрыто печалью, той самой печалью, что светилась в ее глазах при их расставании там, на Земле, в аду человеческого существования.
А над Глебом смеялись уже не только эта отвратительная красная баба и неведомый жеребец, смеялся еще и, как всегда, неизвестно откуда взявшийся Фока Фокич.
Спустя какое-то время Глеб даже начал различать его издевательские слова: «Ну что, говорил я тебе, говорил…»
Затем слова стали различаться все явственнее.
– Ну сколько можно тебя звать, да проснись же ты, наконец, проснись, – и в следующее мгновение Глеб ощутил, что старичок трясет его за плечо…
Глеб сидел у себя в номере. Ему никуда больше не хотелось идти и никого больше не хотелось видеть. Едва он вспоминал имя «Епифания», как перед его мысленным взором немедленно возникал образ бирюзового совершенства. Двух таких не бывает в мире, и его интуиция утонченного художника внушала ему, что он никогда не в силах будет отказаться от такого общения.
«Но что же тогда такое любовь?» – спрашивал сам себя Глеб, в ужасе отгоняя бирюзовое видение и в то же время испытывая страстное влечение к нему. «Ведь самая чистая любовь предполагает верность, а не изменить с такой красавицей невозможно… – сокрушался он, одновременно презирая и жалея себя. – Как отказаться от хотя бы мимолетного обладания таким совершенством? Тем более что на большее там все равно рассчитывать не приходится. – И снова печальный укоряющий лик пепельноволосой возлюбленной всплывал перед ним и смотрел с недоумением и тоской. – А до этого мгновения она мне казалась совершенством… – удивленно думал Глеб. – И разве она стала после этого хуже?»
По комнате туда-сюда расхаживал Фока Фокич и все бубнил нотации, совершенно не давая Глебу сосредоточиться на своей печали. Несносный старикашка то и дело чесал себе грудь, разглаживал бороду или потирал сухие ручки, при этом весьма самодовольно улыбаясь. Глебу хотелось убить его, разорвать на мелкие кусочки, наконец, прокричать прямо в лицо припев старой песенки: «Поучайте, поучайте ваших паучат!» Но он не делал ни первого, ни второго, ни третьего, а только неподвижно сидел и пытался вы– рваться из нового заколдованного круга, творящего ад в его душе.
– Если бы ты научился не смотреть, а видеть, давным-давно уже все было бы с тобой в порядке, – самодовольно гудел Фока Фокич. – Ты уже давным-давно, молодой человек, понял бы, что все происходит только в твоем сознании…
«Да, вчера еще один умник тоже все внушал мне, что можно наплевать на других, – угрюмо думал Глеб. – Хорошо им всем рассуждать, а попробуй самим столкнуться с такой проблемой – вот тогда-то я посмотрел бы…»
– Ты не думай, что твои круги представляют собой что-то особенное, – будто слыша его мысли, продолжал бубнить старик. – Через это проходят все, у кого, конечно же, мозгов на это хватает.
А Глеб угрюмо думал, что, возможно, подобное действительно проходят все, но только решения или хотя бы просто ответа на вопросы до сих пор еще никто так и не нашел.
Ему хотелось вскочить, заткнуть уши и броситься к Епифании, но страх перед тем, что, оказавшись в коридоре, он вновь увидит поджидающую его бирюзовую красавицу, заставлял его снова безвольно обвисать в кресле.
«Да и что я теперь скажу ей? Как посмотрю в глаза, если между нами теперь уже навеки поместилась эта неведомая дьяволица?»
Но больше всего Глеба пугало то, что он, увидев Епифанию, больше не сочтет ее такой прекрасной. Он давно уже знал за собой это неизменное свойство: стоит только однажды обратить внимание на длину ног женщины, как уже всякая другая с более короткими ногами будет казаться уродиной, даже несмотря на то, что раньше никаких подобных ощущений не вызывала.
– Поэтому нужно научиться работать со своим мышлением… – неутомимо бубнил Фока Фокич.
И Глеб, не выдержав, все же заткнул уши и выскочил в коридор.
«Не думать, не думать, не думать ни о чем… – мысленно твердил он в такт шагам, направляясь по коридору куда глаза глядят. – Сейчас просто приду к Епифании, посмотрю на нее, а там… а там… посмотрим. Главное сейчас – не думать, не думать, не думать ни о чем».
Вдруг рука Глеба натолкнулась на что-то холодное и влажное. Он почти в ужасе отдернул пальцы и увидел перед собой недовольно облизывающегося Алекса. Глаза бульмастифа были полны укоризны.
– Поосторожнее, так можно и о клыки споткнуться, – вместо приветствия пробурчал он.
И Глеб вдруг бросился обнимать этого неуклюжего на первый взгляд увальня, не обращая внимания на свисающую с брылей и ложащуюся эполетом на его твидовое плечо слюну.
– Алик, милый ты мой, золотая моя псина…
Бульмастиф вежливо терпел неуместную фамильярность до тех пор, пока Глеб, боясь поднять глаза и встретиться взглядом с той, которая должна была вот-вот появиться, не спрятал лицо в складках мягкой рыжей кожи на его загривке.
Однако неизбежность следующего момента была неотвратима.
Их глаза встретились.
И Глеб снова забыл обо всем на свете.
О, эта таинственная, необъяснимая власть женщины! Откуда исходит она? Почему накрывает мужчину с головой, как девятый вал разгневанной стихии? Почему все вокруг начинает расплываться в розовом мареве тумана, заставляя забыть обо всех недостатках, изъянах и обманах мира? Из года в год, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие продолжается этот фантастический грандиозный обман. И каждый раз он кажется единственным, единственно настоящим и… новым!
Так еще не было! Такого еще не было! И никогда уже больше не будет!
Постепенно ощущение санатория или даже хуже – сумасшедшего дома, – которое поначалу неотступно преследовало Глеба, сменилось впечатлением маскарада. Того самого маскарада, которым забавляются в дни, когда уже ничего не страшно и не важно. И как в любом маскараде, здесь были свои правила, которые, стоило один раз их понять или узнать на практике, становились простыми и легкими.
Так, Глебу очень понравилась возможность подходить к любому существу, будь то человек или животное, и задавать ему любой вопрос. Разумеется, в большинстве случаев ответа можно было не получить, но зато в ответ он непременно тоже слышал вопрос, причем всегда интересный и многое проясняющий. И Глеб часто, пока Епифания находилась под охраной своей парочки где-то за одной из таинственных дверей, бродил по парку, каждый раз открывая в нем новые уголки и приставая к всевозможным обитателям. Особенное удовольствие он получал от обмена вопросами с юным испанцем и старым евреем. Уже давно от Фоки Фокича он узнал, что они никакие не геи, а люди, связанные общим несчастьем: сердце Сус Джалута было пересажено смертельно раненному во время корриды Хуану, и с тех пор они не только не могли расстаться ни на мгновение, но и вынуждены были одинаково чувствовать. Это приносило немало огорчений обоим, но в силу возраста, конечно, больше мучился юный Хуанито.
Вот и в тот день, обменявшись вопросами о том, где именно матадорствовал Хуанито и что важнее перед боем – побороть страх или полюбить быка, они мирно сели под высоким деревом, дававшим, впрочем, густую и какую-то особенно прохладную тень.
– Сие есть благороднейшее произведение растительного царства, – вздохнул Сус Джалут. – А что от него осталось? Два-три дерева в садах Иерусалима, несколько деревьев в Наблусе да в долине Ездрильонской – вот и все! – Старик говорил с сильным акцентом и подлинной горечью. Тут же погрустнел и Хуан.
Сус Джалут улыбнулся пергаментным ртом и положил на плечо юноше высохшую руку.
– О, краса астурийской юности, не печалься о судьбах святого дерева. Судьба некоторых людей бывает хуже. – И тут, к удивлению Глеба, старик выхватил из-под полы длинный отточенный нож наподобие навахи и полоснул по дереву, срезав древесину так, что на стволе образовался ровный овал диаметром с человеческий локоть. Поверхность стала быстро затягиваться густой блестящей смолой, в которой, как в зеркале, отразились лица всех троих.
Глеб и Хуан жадно смотрели, но Сус Джалут властно провел рукой между ними и срезом, и в тот же миг на дереве, как на экране, появилось зрелище какого-то апокалипсиса. Маленький зеленый остров колыхался среди темно-синих озлобленных волн, а изнутри его яростно лизали багровые языки огня. Было видно, что все живое, остававшееся на острове, все еще пытается бороться за жизнь: деревья и травы тянулись к равнодушному небу, отчаянно ржали дикие лошади, кружились с клекотом птицы, не в силах преодолеть смертельную стену морских валов и огня, застилающего воздух черным смрадом. Но несчастный остров неизбежно уходил ко дну. Зрелище было впечатляющее и жуткое, но в тот момент, когда, казалось, все должно было кончиться, в пламени мелькнуло жен-ское лицо – и Глеб в ужасе отшатнулся. Это была Епифания.