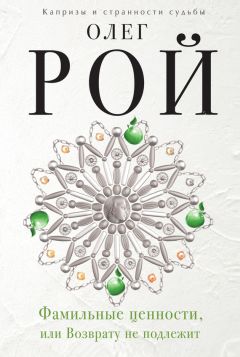Алла Драбкина - Жена по заказу
– О! Какая феерическая вульгарность! – закатил глаза Нефедов. – Мадам Гнилова!
Гнилова стояла рядом с Яной, и казалось, что она – отражение Яны в кривом зеркале. Гнилова тоже была в зеленом и тоже с кружевами. Но настоящие Янины кружева были потаенными, подшитыми с изнанки, а искусственные нейлоновые кружева Гниловой жестко топорщились снаружи, подшитые к такому же жесткому – из парчи, что ли, – колом стоящему платью. У Гниловой были светлые волосы и голубые глаза, но никому бы не пришло в голову назвать ее блондинкой с голубыми глазами, потому что волосы были тусклы, а глаза – водянисты. Копилочный ротик, почти без губ, делал ее похожей на какую-то белесую глубоководную рыбу. Может, я и зло характеризую Гнилову, но ей было хорошо за сорок, а в таком возрасте человек уже должен отвечать за свое лицо. Как же и чем она жила, если так мертво выглядела в итоге этой жизни? Бедная Гнилова.
– Наверное, я кажусь вам Собакевичем? – сказал Нефедов.
– Я сама себе кажусь Собакевичем, – вполне искренне ответила я, умолчав, однако, о том, что ему как-то не с руки высмеивать своих коммерчески выгодных писак, которых он приводил мне в пример. Не могу себе представить, чтобы старик Семенов вот так издевался за спиной ненавистных ему идеологически выдержанных авторов, которых должен был печатать. Он молчал даже не из страха перед ними, а из стыда за свою беспомощность.
А ведь Семенов не мог печатать то, что хотел. Все понимали, что в некоторых случаях он имел право на ненависть и отвращение, однако он молчал о своей ненависти, раз уж не мог помешать порядку вещей. А ведь и тогда была масса прожженно-циничных редакторов, которые, печатая, презирали и высмеивали, прогибаясь и угодничая при этом.
– А вот наш классик Петров… – ухмыльнулся Нефедов.
«Классика» Петрова я читала, не догадываясь, что это Саша Петров, тот самый, которому я давала рекомендацию в Союз писателей и с которым в общем-то дружила. Талант его никуда не делся и сейчас, он писал вполне приличные детективы, по-прежнему заботясь о том, чтоб сочинения его имели смысл и толк.
– А чем вам не угодил Петров? – спросила я.
– Ленивый совок, который ценит каждое свое слово.
– Ну, конечно, не разводит копеечную историю на тысячу авторских листов, как это у вас теперь принято.
– Так вы считаете, что он действительно умеет писать?
– Да. Умеет. И очень хорошо. А вам этого, я вижу, не надо?
Нефедов промолчал, но не отошел от меня. Почему-то он считал, что должен стоять рядом и представлять мне всех гостей по мере их прибытия.
– Старик Прокофьев со своей мадамой. Владелец заводов-борделей-пароходов. Сибирский плебс много лет знал его под кличкой Стальной.
– Стальной? – невольно вскрикнула я, но тут же пожалела об этом.
– Вам это о чем-то говорит?
– Нет, – ответила я, может быть, чересчур резко.
Но та кличка мне о многом говорила. Я внимательно смотрела на Прокофьева, но не могла сказать с уверенностью, тот ли это Володя Стальной, которого я знала почти тридцать лет тому назад.
Помню, он прислал письмо на двух десятках страниц после выхода первой моей книги. Это был поразительно грамотный и точный литературный разбор. Я, разумеется, ответила, не очень-то разбираясь, что означал обратный адрес Володи Стального.
Переписка продолжались года два, пока он не явился собственной персоной. Я тогда жила в коммуналке, и все соседи, которые хоть краем глаза видели Стального, долго не могли успокоиться, расспрашивая, кто это и зачем приходил. Это при том-то, что ко мне ходили десятками – и муха, и жаба. Мирные обыватели храпели и били копытом при виде этого дерзкого, красивого и даже внешне опасного волчары. Он был у меня пару раз, а потом сказал:
– Дружить домами не будем, потому что у меня никогда не будет дома. Об одном тебя прошу: не верь таким, как я. Не пускай нас в дом. Ты слишком молода и благородна, чтоб понимать, кто мы такие и что мы знаем. Наш опыт тебе не нужен, он запредельный.
И больше он не пришел и не написал ни разу.
Покойный Гриша Сурков, следователь, навел о нем справки и, как всегда назидательно, сказал мне, что быть подружкой этого человека не только неприлично, но и опасно.
– Но он же все понимает! – воскликнула я. – Ни один из вас, кроме Гусарова, никогда так меня не понимал!
– Он-то тебя понимает… Да что тебя понимать, Женечка! Он ее, видите ли, понимает! А ты его понимаешь? В его тридцать пять за ним семнадцать лет тюрьмы! Даже я не могу себе до конца вообразить, что такое тюрьма. Спроси Гусарова – он никогда не скажет тебе полной правды. А ведь он сидел не столько и не за то, за что сидел Стальной.
– И все равно он благородный! Он сам ушел, он сам сказал мне, как к нему относиться.
– Ему это недорого стоило.
Потом у меня изредка появлялись поклонники из мест не столь отдаленных, я спрашивала их о Володе Стальном. Те, кто что-то о нем знал, испуганно замолкали, услышав мои вопросы. Теперь я понимаю, что заигрывать с уголовниками типа Стального не следует, теперь у меня уже хватит воображения, чтобы действительно бояться таких и самого воздуха вокруг них. Но все равно в глубине души я вспоминаю Стального добром, по крайней мере – с уважением.
И вот теперь я разглядываю Прокофьева, стараясь понять, не тот ли это Стальной. Стальные зубы, в свое время давшие ему эту кличку, отсутствовали, но фарфоровые были настолько явно фарфоровыми, что ничего не стоило предположить их недавнее происхождение. У того были дерзкие, неукротимые глаза (их цвета не помню: то ли серые, то ли зеленые, то ли желтые). У этого глаза были усталые, несколько хмурые. Явно совпадала только тигриная грация движений, но опять же мало ли красивых мужчин, неосознанно освоивших такую повадку?
Тому Стальному должно было быть немногим за шестьдесят, этому лет на пятнадцать меньше, или просто он потрясающе сохранился.
– Какое он имеет отношение к вашему издательству?
– Ну у него есть еще и типография. Он кент Папы Вити.
– Разве Виктор Аполлонович не знает о его прошлом?
– А откуда вы знаете о его прошлом?
– Так ведь кличка…
– Ах, кличка… Ах да, кличка. А по-вашему, Папа Витя хоть что-нибудь знает о людях? Он же никогда не жил в реальной жизни.
И вот тут Нефедов был прав.
«Мадама» Прокофьева была очень красивой женщиной, немногим уступающей Яне. А может, она просто была не столь удачно одета. Прекрасное лицо с высокими скулами и чуть раскосыми зеленоватыми глазами очаровало меня спокойным достоинством. «Ни взора наглого для всех…» Тот Стальной очень хорошо разбирался в женщинах, а потому мог выбрать такую, впрочем, с разницей в тридцать лет он мог и ошибиться, я наблюдала такие ошибки и у очень умных мужчин.
Потом гость повалил косяком. Нефедова отвлекли, окружили какие-то люди.
Три дамы подошли ко мне с одним и тем же вопросом:
– А вы что тут делаете?
Томская задала этот вопрос в своей надменной манере, но я не обиделись. Этот тон был ей свойствен даже тогда, когда она жила у меня из милости на кухне. Люди, напрочь лишенные чувства собственного достоинства, почему-то всегда считают нужным разговаривать либо надменно, либо униженно.
Третьего не дано.
– Я? Я присматриваю за столовым серебром, – ответила я. – Знаешь, эти новые писаки…
Получив по мозгам, Томская вспомнила о былой дружбе.
– Тетя Женечка! Я бы так хотела зайти к вам и показать свой новый роман…
Я хотела сказать, что давно не подаю на бедность, но сдержалась.
– Я не разбираюсь в новых жанрах, так что прости, Элла.
– А вы что тут делаете? – В тоне Гниловой было превосходство человека, наконец-то добившегося справедливости.
Она, Гнилова, справедливо процветает, а ее гонители, как и положено, прозябают в безвестности.
Она даже не понимала, что; я не была ее гонительницей, что я терпела ее и щадила. Вот уж она бы ни при какой погоде не щадила никого. Я, радуясь, что теперь могу не щадить ее, нарочито хамским тоном ответила:, – Пожрать пришла! – после чего сбежала от Гниловой.
– А вы что тут делаете? – Беатриса осталась при всех своих правах быть там, куда посторонним вход воспрещен. Для нее почти ничего не изменилось, а если и изменилось, то только к ее пользе.
Раньше, будучи партийной чиновницей, она все-таки побаивалась быть особенно высокомерной и пренебрежительной. Ей приходилось притворяться. Но и мне приходилось притворяться, потому что к тому времени, когда мы с ней познакомились, я уже знала, что такое обком и обкомовские дамы.
Теперь она уже не обязана была хотя бы казаться приличной. Но и я тоже ее не боялась.
– Я? Что делаю? Поесть пришла, что мне теперь остается. Такая у меня теперь зоология.
Конечно же, она ни на секунду не забывала унижения, которое схлопотала тогда от Килькина, но только теперь могла со мной рассчитаться. По-хозяйски демонстрируя своего «спиногрыза», она сказала; с самодовольным прищуром: