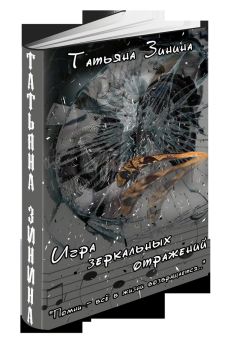Николай Буянов - Бал для убийцы
— Он вез бумаги и револьвер, — сказал ротмистр в коридоре, плотно прикрыв дверь за собой. — При нем их не обнаружили, значит, кому-то передал. Кому?
Поезд отправили только через час — вместо положенных по расписанию двадцати минут. Люба нашла Николеньку в тамбуре, в вагоне для курящих. Она впервые увидела его с сигаретой — он неотрывно смотрел в окно, в темень и дождь, мутными струйками расползающийся по стеклу. А он симпатичен, вдруг подумала она. Высокий чистый лоб, внимательные серые глаза, и губы, наверное, чудо как хороши… Разве что полнота — но полнота некоторым мужчинам очень даже идет, делает их более значительными.
— Кто это был?
— Что? — Он резко обернулся — сконфуженный, готовый к отпору, даже испуганный.
— Человек, которого арестовали. Ты ведь знаком с ним?
— Я не понимаю, о чем ты говоришь.
Любушка вздохнула:
— Это я спрятала револьвер и бумаги. Их обязательно нашли бы в саквояже.
Николенька вдруг схватил ее за руку и притянул к себе. Глаза его стали колючими. Теперь он совсем не походил на того милого неуклюжего медвежонка, которого она знала раньше.
— Откуда тебе известно…
— Я слышала ваш разговор через стенку купе. Только не вздумай, будто я следила за тобой, это вышло случайно.
— И много ты услышала? — спросил он холодно.
— Немного, но… Пожалуйста, отпусти руку, мне больно.
Николенька послушно разжал пальцы. Он не отрываясь смотрел на спутницу, будто видел ее впервые.
— Где же ты их спрятала?
— Револьвер — в бачке для воды, за умывальником. А бумаги… Отвернись, я достану.
…Он молчал, молчала и она — в темном купе, сидя рядышком на мягком сиденье. Тихо-тихо, будто боясь спугнуть кого-то, позвякивали на столе тарелочка и ваза с неживыми цветами. Мерно стучали колеса, окружающий мир едва заметно покачивался, и молодых людей то прижимало друг к другу, то отодвигало на некоторое расстояние.
— Почему? — задал он нелепый вопрос.
— Что?
— Почему ты это сделала?
Она зябко поежилась.
— Потому что вы симпатичны мне, сударь. Приличная девушка не должна говорить такое первой, но… Что же делать, коли сами вы не догадаетесь?
— И тебя не смущает, что я связан…
— С террористической организацией? Нет, не смущает. Тем более я давно догадывалась.
— Давно?
— Ну, недавно. С некоторых пор. — Люба твердо посмотрела ему в глаза. — И еще я хочу сказать тебе. В общем, ты можешь на меня рассчитывать. Всегда, что бы ни случилось.
До самого окончания путешествия (поезд прибывал в Петербург лишь поздним утром следующего дня) они оба просидели в купе, прижавшись друг к другу. Любу прямо-таки подмывало забросать спутника вопросами, но она сдерживалась, понимая: одним, пусть даже таким смелым поступком полного доверия не завоюешь. И все равно — нервный восторг, дрожь в преддверии чего-то неизведанного и наверняка опасного, странное влечение к Николеньке — от всего этого голова сладко кружилась.
А потом наступил Петербург, Любушкин змей-искуситель, город ее мечты и какой-то неизъяснимой любви, почти неприличной страсти…
Он плыл, словно гигантский корабль, в холодном полудожде-полутумане — типичная погода для этого Богом проклятого города, возросшего на костях и болотах. Сонечка в письме обещала встретить сестру на вокзале, поэтому та, едва состав достиг перрона, намертво приклеилась носиком к окну, выискивая знакомую фигуру среди встречающих. Сонечки, однако, не было. Вместо нее на платформе к Любе и Николаю подошел какой-то господин в сером кашемировом пальто и старомодном котелке. Лицо его выглядело слегка помятым и отливало нездоровой желтизной (печень, догадалась девушка).
— Любовь Павловна? — вежливо спросил он и приподнял котелок.
Голос был участлив и немного официален — от такого сочетания Любушка ощутила вдруг неприятный холодок под ложечкой.
— Что вам угодно?
— Прошу прощения. Пристав следственного управления при Петербургском Департаменте полиции, Альдов Алексей Трофимович. — Он замялся на секунду. — Боюсь, у нас для вас плохие новости. Не угодно ли будет проехать со мной?
Они узнали, что я спрятала револьвер, пронеслось в голове Любушки. Сейчас схватят, бросят в подвал и начнут пытать… Боже мой, во что влипла, дурочка!
— Где Соня? — ледяным голосом спросила она (держаться — так уж до конца!). — Она обещала меня встретить.
— Софья Павловна скончалась.
…Он что-то сказал, этот странный господин (Любушка попробовала вспомнить его имя — он ведь назвался, перед тем как… Что-то расхожее, русское), но она не осознала, а переспросить постеснялась. Что-то о Сонечке — она должна была приехать на вокзал, да, видно, задержали срочные дела. Или нет?
Скончалась.
— …во вторник вечером, у себя дома. Мы послали телеграмму от казенного ведомства, но она, видимо, запоздала.
— Где Соня? — спросила она.
— В морге, на Васильевском.
Все поплыло перед глазами, город-корабль закачался на серых волнах, окружающий мир почему-то перевернулся, и сквозь внезапную ласковую тьму послышался испуганный голос Николеньки:
— Любушка, милая, тебе плохо? Врача! Кто-нибудь, врача, скорее!
Она не могла выдавить из себя ни слезинки.
Она лежала на смятых простынях, в той самой спальне, в особняке на Невском, где они с Соней, бывало, перешептывались, давясь смехом, или делились самыми «жуткими» секретами ночь напролет (недовольный голос Вадима Никаноровича, Сонечкиного супруга: «Милые дамы, сколько можно? Как дети, честное слово!»).
Неподвижная и бесчувственная, точно деревянная кукла. Только необязательные пустые мысли лениво текли в голове, как в лесном болотистом озере: скончалась. И некому было ей помочь: горничная получила неожиданный выходной, Вадим Никанорович праздновал в «Национале» завершение какой-то крупной сделки.
Скончалась. Не дождавшись меня, именно в тот день, когда (нелепое стечение обстоятельств!) прогремели выстрелы на вокзале, до смерти перепугав несчастного Петю.
— Тебе что-нибудь нужно? — Николенька вошел, прикрыв за собой дверь, сел рядом, на краешек постели, и положил ладонь на Любушкин пылающий лоб. Ладонь была приятно прохладной.
— Как все прошло?
— Ты имеешь в виду похороны? Не беспокойся, прошли как подобает. Отпели в Александро-Невской, народу была тьма-тьмущая, все важные персоны…
— Мне стыдно, что я не смогла пойти.
— Я бы тебя и не пустил в таком состоянии. Доктор наказал полный покой. На вот, выпей-ка…
Она послушно выпила — и покой действительно наступил, краткий, зыбкий, спасительный…
На кладбище Любушка попала только через две недели после похорон сестры — все это время она провела дома у Вадима Никаноровича вместе с Николенькой и Павлом Евграфовичем. Большую часть времени она лежала в постели, то мучаясь от непереносимой жары, то кутаясь в три одеяла, то впадая в глубокое, как колодец, забытье. Доктор не находил у нее признаков физической болезни, однако настойчиво рекомендовал постельный режим.
На десятый день Люба начала вставать. Голова немилосердно кружилась. Она с трудом, придерживаясь за стенку, добралась до зеркала и вяло ужаснулась: лицо бледное, морщины вокруг запавших глаз, спутанные волосы — она явно напоминала сумасшедшую. Еще полдня ей понадобилось, чтобы привести себя в порядок: наложить легкий макияж, сделать прическу (горничная Донцовых Лиза оказалась великой искусницей), избавиться от головокружения посредством бокала вина…
— Приходил полицейский, — сообщил новость Николенька.
— Да? — бесцветно спросила Любушка. — Что ему было нужно?
— Опять расспрашивал насчет того типа, что стрелял в нас.
— В Петю…
— Не обязательно. Он мог целиться в меня или тебя и промахнулся. Бред, конечно, я согласен… Почему ты не в постели?
Она оперлась о его руку и сказала, опустив голову:
— Отвези меня на кладбище.
Сквозь голые ветки дубов и кленов светило равнодушное солнце. Под ногами, стоило свернуть с центральной аллеи, стало слякотно, пахло гнилью и перепревшими прошлогодними листьями. Высокую ограду и черную плиту еще покрывали венки и цветы — свежие, Вадим Никанорович распорядился выбросить старые, с похорон, и купить новые, в магазине Благолепова, что на Васильевском. Любушка положила свой букетик, повернулась к Николеньке и спросила:
— Что это за человек вон там, у склепа? Кажется, я видела его раньше.
— Инженер с судоверфи, знакомый Вадима Никаноровича.
— Он был на похоронах?
Николай пожал плечами:
— Не помню. Да что тебе до него?
Она зябко поежилась.
— Я стала слишком мнительной. От каждого куста шарахаюсь. Померещилось, будто он следит за нами.
«Инженера с судоверфи» звали Всеволод Лебединцев — Николенька поостерегся называть Любушке настоящее имя. За месяц до этих событий он принял на себя руководство Летучим северным отрядом и стал называться Карлом…