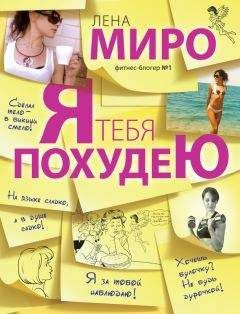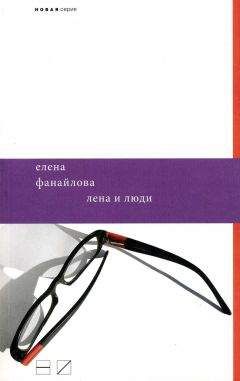Камилла Лэкберг - Запах соли, крики птиц
— Чего это ты там лопочешь, корова несчастная. Думаешь, ты такая крутая? Хвастаешь тем, какие у тебя хорошие оценки, какие длинные слова ты знаешь, и считаешь себя лучше нас. А теперь еще решила, что из тебя выйдет поп-звезда. — Презрительно захохотав, он оглядел собравшихся в поисках поддержки. Никто не откликнулся на его взгляд. Впрочем, никто и не запротестовал, поэтому он радостно продолжил: — Неужели ты сама в это веришь? Только позоришь себя и всех нас. Я слышал, как ты там лебезила, чтобы тебе разрешили спеть сегодня вечером твою дурацкую патетическую песенку, и мне не терпится посмотреть, как народ закидает тебя тухлыми помидорами. Блин, да я сам встану поближе и присоединюсь.
— Прекрати, Уффе, — прервал его Мехмет, глядя на него в упор. — Ты злобный дурак и завидуешь тому, что у Тины есть талант, а тебе светит только недолгая карьера в качестве кретина из реалити-шоу, а потом ты вернешься обратно на склад и будешь надрывать себе задницу.
Уффе снова захохотал, но на этот раз нервно и вымученно. В словах Мехмета присутствовала доля правды, и это будило в нем беспокойство. Однако он быстро подавил в себе это чувство.
— Не хотите, можете мне не верить. Вечером сами услышите. Местные крестьяне подохнут со смеху.
— Я тебя ненавижу, Уффе, так и знай. — Тина встала и со слезами на глазах покинула группу.
Один из операторов последовал за ней. Она побежала, чтобы уклониться, но скрыться от камер было невозможно. Они настойчиво сопровождали ее повсюду.
Патрик не мог сконцентрироваться ни на чем другом. Его постоянно преследовали мысли о ДТП. Если бы только он мог сообразить, что в этом смертельном случае кажется ему таким знакомым! Он достал папку со всеми бумагами, относящимися к расследованию, и уселся их снова пересматривать, сам не зная, в который уже раз по счету. Напряженно думая, Патрик всегда бормотал про себя.
«Посинения вокруг рта, колоссальное содержание алкоголя у человека, который, по сведениям родственников, вообще не пил». Он водил пальцем по протоколу вскрытия в поисках чего-нибудь, упущенного при прошлых прочтениях. Ничего странного вроде не выплывало. Патрик поднял трубку и набрал номер, который знал наизусть.
— Привет, Педерсен, это Патрик Хедстрём из полиции Танумсхеде. Я тут сижу с протоколом вскрытия, и меня интересует, нет ли у тебя пяти минут, чтобы еще разок разобрать его вместе со мной.
Педерсен ответил утвердительно, и Патрик продолжил.
— Эти синяки вокруг рта, можно ли сказать, когда они у нее появились? О'кей… — Он попутно делал заметки на полях. — А алкоголь, можно ли установить, в течение какого временного промежутка она его выпила? Я имею в виду не точное время, хотя и его тоже, а пила ли она долго, или сразу опустошила бутылку из горла, или… ну, ты меня понимаешь. — Он внимательно слушал, параллельно работая ручкой. — Любопытно, любопытно. Не обнаружил ли ты при вскрытии еще чего-нибудь странного?
Патрик ненадолго отложил ручку и только слушал. При этом поймал себя на том, что так крепко прижимает трубку к уху, что оно начало болеть, и немного расслабил руку.
— Остатки скотча вокруг рта? Да, это, безусловно, важная информация. А больше ты ничего мне дать не можешь?
Не услышав больше ничего полезного, он вздохнул и разочарованно потер брови большим и указательным пальцами свободной руки.
— Ладно, придется довольствоваться этим.
Патрик неохотно положил трубку. Он определенно надеялся на большее. Достав фотографии с места аварии, он принялся изучать их в поисках чего-нибудь, чего угодно, способного встряхнуть сопротивляющуюся память. Больше всего раздражала неуверенность: да есть ли что вспоминать? Может, он просто себе что-то вообразил. Может, это какая-то странная форма дежавю, навеянная чем-то, виденным по телевизору или в кино, или он только слышал о чем-то похожем, а теперь мозг упрямо заставляет его искать нечто несуществующее.
Но как раз в тот миг, когда Патрик был готов с раздражением отбросить бумаги, между синапсами у него в мозгу кое-что мелькнуло. Он наклонился, чтобы повнимательнее рассмотреть зажатую в руке фотографию, и постепенно стало возникать ощущение триумфа. Возможно, он все-таки не ошибается. Похоже, самые темные уголки его памяти все время хранили нечто конкретное.
В один прыжок он оказался у двери. Теперь — скорее в архив.
Она безразлично пропускала движущиеся по ленте товары, считывая с них штрих-коды. Слезы скапливались под веками, но Барби упрямо моргала и не давала им вырваться наружу. Ей не хотелось позориться и плакать, сидя за кассой.
Утренний разговор всколыхнул так много чувств. Так много грязи, долгое время лежавшей глубоко на дне, сейчас поднялось на поверхность. Барби посмотрела на сидевшую за кассой перед ней Йонну — в каком-то смысле она ей завидовала. Пожалуй, не ее депрессивному состоянию и бесконечному резанию: сама Барби никогда не смогла бы таким образом вонзить в свою плоть нож. Она завидовала явному безразличию Йонны к тому, что говорят и думают окружающие. Для Барби же то, как она выглядит и какой предстает в глазах остальных, играло исключительно важную роль. Правда, так было не всегда. Об этом свидетельствовали школьные фотографии, которые раскопала проклятая вечерняя газета. На них она маленькая, худенькая, с огромной зубной пластиной, с почти незаметной грудью и темными волосами. Когда эти снимки появились в газете, Барби пришла в отчаяние, однако не по той причине, которая лежала на поверхности. Ее не слишком волновало раскрытие «тайны», что у нее фальшивые сиськи и ненатуральный цвет волос. Уж не такая она тупая. Просто ей было больно смотреть на то, чего больше нет, — на радостную улыбку, излучавшую уверенность и оптимизм. В былое время ей нравилось быть самой собой — уверенной и довольной собственной жизнью. Но в тот день все изменилось. В день, когда умер отец.
Они с отцом так хорошо жили. Ее мать умерла от рака, когда она была совсем маленькой, но отцу тем не менее каким-то образом удалось создать у дочери ощущение полноценности, и она никогда не чувствовала, будто ей чего-то не хватает. Барби знала, что в доме какое-то время царила неразбериха — когда она была в грудном возрасте, а мать только что умерла, и произошло то ужасное событие. Ей об этом подробно рассказывали, но отец заплатил по счетам, извлек урок, начал новую жизнь и нежно заботился о дочке. Вплоть до того дня в октябре.
Произошедшее казалось нереальным. В один миг вся ее жизнь рухнула, и она лишилась всего. Родителей больше не было, родственников тоже, поэтому ее выбросило в мир приемных семей и временных жизненных обстоятельств, научило вещам, которых она предпочла бы не знать. Одновременно пропало и прежнее ощущение надежного тыла. Друзья никак не понимали, что произошедшее изменило ее изнутри. Тот день что-то в ней надломил и навсегда сделал другой. Какое-то время они пытались с ней общаться, но потом бросили на произвол судьбы.
Тогда-то и началась погоня за признанием старших парней и крутых девчонок. Обыденная внешность и мальчишеское поведение больше не годились. Имя Лиллемур тоже не подходило. Она начала с того, что было ей по силам и средствам: выкрасилась в блондинку в ванной комнате у одного из череды старших приятелей, прошедших через ее жизнь, всю старую одежду заменила на новую — покороче, посексуальнее, поскольку поняла, что сможет вытащить ее из нищеты — секс. Он мог купить ей внимание и вещи, дать возможность выделиться из толпы. У одного приятеля было хорошо с деньгами — он и оплатил грудь. Ей бы хотелось иметь формы чуть поменьше, но, поскольку платил он, последнее слово осталось за ним. Он хотел размер Е, так и сделали. Когда внешнее преображение свершилось, оставался лишь вопрос упаковки. Приятель, профинансировавший грудь, называл ее своей куколкой Барби, тем самым решив вопрос имени. Дальше требовалось лишь определить, где ей лучше раскручивать свой новый имидж. Начало положили несколько мелких подработок в модельном бизнесе — в полуобнаженном или обнаженном виде. Но крупный успех ждал ее в «Большом Брате» — она стала звездой сериала. Ее совершенно не волновало то, что весь шведский народ получил возможность прямо из своих гостиных наблюдать за ее сексуальной жизнью. Кого это могло огорчить? У нее не было семьи, которая возмущалась бы тем, что она их позорит. Она была одна в целом мире.
Чаще всего ей удавалось не думать о жизни, предшествовавшей рождению Барби. Она загнала Лиллемур в самую глубь сознания, и той уже почти больше не существовало. Так же она поступила и с воспоминаниями об отце — ей пришлось запретить себе думать о нем. Чтобы выжить, требовалось исключить из новой жизни звук его смеха или ощущение прикосновения его руки к ее щеке. Это причиняло боль. Но утренний разговор с психологом задел струны, которые продолжали упорно вибрировать в ее груди. Правда, похоже, не только у нее одной. После того как они один за другим побывали в маленькой комнатке за сценой и посидели напротив него, атмосфера стала гнетущей. Иногда ей казалось, что весь негатив был обращен лично на нее, и порой даже возникало чувство, будто кто-то из участников бросает на нее недобрые взгляды. Но каждый раз, когда она оборачивалась, чтобы посмотреть, откуда исходит это ощущение, мгновение оказывалось упущенным.