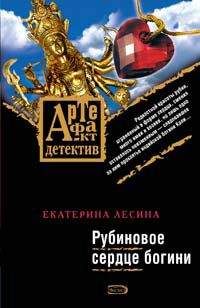Екатерина Лесина - Серп языческой богини
Тойе слушала, но не слышала.
В чем ей виниться? Чего стыдиться?
– В отца пошел, в отца… ничего, я ж перетерпела…
И Тойе терпит. Но не знает, как надолго хватит терпения. Спать легла на полу, рядом с колыбелью, но заснуть не вышло, лежала, думала, давила стоны. И Юкко понял сразу – не спит.
– Уходи, – прошептал он.
– Куда?
– Отсюда уходи. Он тебе жизни не даст. Забьет насмерть.
Наверное, прав Юкко. Только где ждут Ласточку? Нигде. Нет у нее иного гнезда, и выходит, что права была свекровь – остается терпеть. Мириться.
– Если бы я мог ходить… я бы не позволил. Сам бы забрал. Уехал. Только что с разговоров.
Она видела в темноте стиснутые руки, сильные, но беспомощные. Эти бы не ударили.
– Нож возьми. Стрелы возьми. Силки. Крючки. Ты крепкая, ты справишься. – Вцепившись в лавку, Юкко приподнялся. – Там страшно. Я знаю. Но тут будет страшнее. Сегодня он тебя бил. И будет бить завтра. Послезавтра. А там и за…
Понятно, за кого боится Юкко. Но разве не лучше ребенку в доме, где тепло и сытно? В лесу звери. Холод. Голод. Зима. Зиму Тойе не переживет.
Нет, рано еще уходить. Весны бы дождаться.
День ото дня становилось хуже. Иногда Туве, уже занеся руку, понимал, что нельзя ударить, и честно пытался остановить себя, но стоило глянуть в злые глаза Ласточки, и ярость сметала все запреты. После он совестился, укоряя себя за несдержанность, обещая, что этот раз – последний и больше ничего подобного не случится…
Случалось.
Рукою. Ремнем. Поленцем, которое хотел в печь сунуть, а швырнул в стену. Возле самой головы ударилось. Еще немного, и не стало бы Тойе.
А не к лучшему бы оно? Пусть бы ушла. Перестала мучить и его, и себя, и прочих всех. Глядишь, и с братом помириться вышло бы. И мать перестала бы глядеть со страхом, которого Туве в ее глазах прежде не видел. Сам он, отойдя от боли, привел бы в дом другую жену.
Тихую. Ласковую. Покорную.
Такую, которая не стала бы заглядываться на других.
И от таких мыслей, от невозможности их исполнения, Туве вновь зверел.
Ласточка же научилась чувствовать это его состояние. Она не пряталась, нет, но просто держалась как-то так, что зверь внутри переставал ее замечать.
Но и с нею, с Тойе, творилось неладное. Красота ее поблекла, черты лица заострились, и нет-нет да проглядывало в них нечто недоброе. Бывало, станет Ласточка в тени, так, что не видать ее саму, и глядит на мужа. Глядит и улыбается.
Страшно становилось Юкко от той улыбки.
– Беги, – повторял он теперь все чаще, уже не опасаясь быть услышанным.
Куда бежать? Весна голодна. Зверь отощавший, дикий совсем. Рыба за зиму жиры скинула. И земля, только-только освободившись от волглых снегов, не спешит родить.
Нет, Тойе-Ласточка умеет ждать.
Она считала дни и удары, заставляя себя запоминать их. Тойе сочтется за каждый.
Ласточка не помнила, когда и как появилась эта, в общем-то, правильная закономерная мысль – отомстить. Наверное, родилась с кровью, с болью, как рождается все живое и стоящее. А мысль, безусловно, была стоящей…
Удар за удар.
Боль за боль.
Любовь за… А разве она умеет любить? Юкко думает, что умеет. Ему так хочется, чтобы Тойе любила. Беспомощного. Безногого. Всегда ласкового, хотя ныне он пытался притворяться равнодушным, даже покрикивал изредка. Дескать, я тебе никто. И ты мне никто.
Туве видел неуклюжее притворство, как видел то, что за ним скрывается. Бесился.
Правда, Юкко он не бил.
Тойе только. И как ей любить, если бьют за двоих? Разве справедливо?
Шла весна. Рядилась в зелень. Гнала по небу стаи серых гусей и полнила озеро серебряной рыбой. Оживали леса зверем. Ложились поля под плуг, готовые принять золотое тяжелое зерно. Зима, случившаяся на редкость голодной, осталась позади, и люди спешили жить, забыть то ненастное ледяное время.
Полыхнуло солнце. И раскинулись высокие травяные ковры.
На заливной луг вышли со свекровью. Жарко было. Зудела мошкара. Липла к разбитым губам. Ползала по шее, норовя забиться в волосы. И свекровь, тонко причитая, то и дело хлопала себя по шее, по рукам, размазывая черноту. Повторяла:
– От мерзь, от мерзь…
И Тойе кивала, соглашаясь: действительно мерзь. Луг этот яркий и душный. Солнце. Мошкара. Сама свекровь, которая притворяется доброй, но больше со страху. Выродила сынка, что и самой глядеть тошно, хотя вслух никогда не признается.
Шли рядом. Свекровь сгребала траву горстью, перекручивала хитро и отсекала у самой земли. Словно волосы драла. Трава ложилась направо, быстро теряя соки под палящим солнцем. А Тойе завороженно глядела на белый серп, что мелькал в зелени, словно юркая рыбка в заводи.
– Я тут травок соберу… хороших травок… верных… и наговор знаю… – сказала свекровь, лишь оказавшись у самого берега. Словно опасалась, что некто – уж не Туве-Медвежонок ли? – подслушает эту беседу. – Запарить надо. Отстоять. Заговорить. А там потихоньку… понемногу… в еду… поспокойней станет.
Глянула искоса: понимает ли Тойе, о ком речь.
– Спасибо.
– Главное, тишком. Чтоб не прознал. Но мой не прознал… тихий вон… а был-то, был… – Она покачала головой и стерла пот. На белом клинке серпа выделялись темные пятна. Будто не траву резали…
– Красивый у вас серп, – сказала Тойе.
– Туве принес. Туве-то ласковый был… другой… Юкко – молчун. От него и слова-то доброго не дождешься.
А Медвежонок всегда обнимет, поцелует… спросит, как я. Хорошо ли мне…
Она вдруг села на землю и заплакала. Слезы текли по морщинам, и Тойе, глядя на это темное постаревшее лицо, радовалась. Вот бы почаще свекрови плакать.
– Давно принес? – Тойе наклонилась за серпом, в руки взяла.
Красивый. И не из железа холодного сделан, а из чего – не понять.
– Давно… – свекровь нахмурилась, вспоминая. – Как на тура пошел… нет, позже. На ярмарку ездил, оттудова и привез. Выменял.
В глазах – страх.
Врет свекровушка. Сама поняла вдруг, чей это серп. Сиркко-ведьмы, Сиркко-ведуньи. Этим серпом одинаково что слово режут, что траву редкую, что камни черные, из которых потом соком гнилая вода течет.
– Отдай! – потребовала свекровь, руку протянув. – Утоплю! Сожгу!
Такую красоту? Вьются по клинку травы невиданные, листья, цветы-снежинки, знаки тайные. А прежде Тойе узоров не видела. Слепа была. Глупа. Теперь же вглядывается, стараясь прочесть, щурит глаза, перекладывает серп из руки в руку, пальцами стирая сок травяной.
– Отдай!
Свекровь наступает. Руки вытянула, пальцы растопырила. Сама страшна. Космата. Темнолица.
– Отдай! – уже не говорит – шипит.
И дотянулась-таки, вцепилась в серп, дернула, пытаясь вырвать. А лезвие возьми да извернись. Ужалило пальцы, рассекло запястье, глубоко, до самой кости. Хлынула красная кровь на траву…
С визгом упала свекровь, рану зажимая. Взмолилась:
– Помоги!
Тойе отступила. Помогать? Вот ей? Она Туве выродила. Она его вырастила. Она же и в чудовище превратила. Шептала-нашептывала, что не пара ему Ласточка, что слишком красива, норовиста без меры. Сколько раз Тойе слышала упреки?
И хоть бы единожды заступилась…
Так зачем же помогать? И кровь течет, яркая…
Свекровь умерла быстро. Закатила глаза и умерла. Ласточка потрогала ее, проверяя, вправду ли мертва. А потом вложила серп в руку. Хорошо получилось. Как будто сама она… резала траву и подрезала руку.
Бывает.
Тойе отступила, полюбовавшись картиной, а потом опрометью бросилась к деревне с криком:
– Помогите! Помогите, люди добрые! Матушке плохо стало! Матушка поранилась!
Туве вылетел со двора, впился в плечи, тряхнул:
– Ты?
– Убилась! Там! – Тойе махнула рукой, вглядываясь в побелевшее лицо супруга. Никак и вправду любил мать Медвежонок. Больно ему будет. Но не больней, чем самой Тойе. А значит, все по справедливости.
Он побежал на луг. Принес матушку на руках и любопытных соседей отогнал не словом – едино взглядом. Все, кто имел что сказать, смолкли да попрятались. Туве же, уложив тело на лавку, велел:
– Рассказывай. Не лги.
– Мы… мы жали. Жарко стало. Я к пруду отошла. А назад… вижу, она лежит… совсем лежит… и кровь! Крови столько!