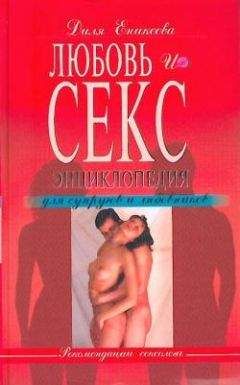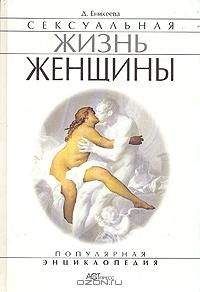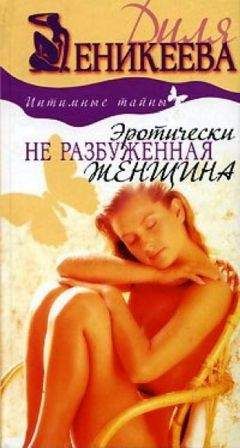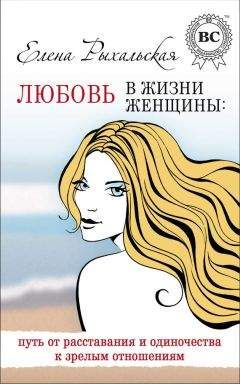Дмитрий Вересов - Мой бедный Йорик
Теперь она уже была пусть не специалистом, но все-таки и не дилетантом. Когда она, наконец, увидела на картине отца первые внятные мазки сына, ей стало понятно, что Иероним не может уловить манеру покойного художника. Как-то он сказал Ане, что в последней работе отец странным образом преобразился. Его техника стала несколько напоминать Эдгара Дега, хотя сам Василий Лонгин ни за что бы это не признал. Но в ней много было и от прежнего соцреалиста, автора портретов вождей на фоне строек коммунизма, демонстраций и развернутых знамен. Иероним не мог повторить этого причудливого сочетания, он понимал это в теории, мог рассуждать об этом, но его кисть почувствовать этого не могла. Видимо, Лонгин-младший слишком далеко зашел по дороге авангардизма и что-то важное потерял на этом пути. Работа давалась ему с трудом, он мучился, чувствуя себя каким-то блудным сыном, словно он работал не с красками, а со своей совестью, своими воспоминаниями, спорами с отцом.
Аня это чувствовала и видела, еще плоховато вооруженная теорией, что художнику Иерониму Лонгину не дается ни композиция, ни перспектива. Третья фигура пока не связывает двух уже существующих на картине. Может мачеха Тамара была права? Или она его просто сглазила, как ведьма, как черный глаз? По крайней мере, было видно, как Иероним пытается красками опровергнуть ее прощальную насмешку, но это у него не слишком хорошо получается.
Однажды утром, когда Иероним уехал по делам в Союз художников, Аня опять подошла к автопортрету Лонгина-старшего. Третья фигура все так же носила на себе следы нервной, непоследовательной работы, но приобрела некоторые узнаваемые черты. Лоб, форму носа, жестковатые волосы уже можно было различить и узнать их живого владельца. Главное, что делало третью фигуру похожей на их общего знакомого — это его партийная выправка, сквозившая во всей позе уверенность, сознание собственной непогрешимости и в то же время мягкость, округлость жеста. Тут Иероним удачно подметил те черты нового партийного чиновника, о которых говорил Ане Никита Фасонов.
Итак, Иероним рисовал на отцовском автопортрете Вилена Сергеевича. Фигура Пафнутьева должна была, по его мнению, вызвать своим внезапным появлением ужас в глазах отца и приветливую, двусмысленную улыбку у мачехи Тамары.
Глава 11
— Что читаете, милорд?
— Слова, слова, слова…
В субботу Аня открыла дверь на ранний утренний звонок. На пороге стоял Вилен Сергеевич, только не в профиль, как на картине, а анфас.
— Вилен Сергеевич…
Аня только что смотрела на его живописную копию, а потому чуть не ляпнула: «…живой». Дверь открылась пошире, и на лестничной площадке показалась мачеха Тамара. Она была в ослепительно белом спортивном костюме и таких же белых кроссовках. Посмотрев на мачеху, Аня вспомнила рассказ Никиты про спортивный клуб «Вселенная» и поверила, что там действительно хорошие инструкторы, тренажеры, массаж и сауны.
— А вот и мы, как договаривались, — почти хором произнесли Тамара и Пафнутьев.
Увидев недоуменное лицо Ани, они совершенно искренне обиделись.
— А пикник в Комарово? Неужели забыли?
Аня хотела напомнить им про последнюю встречу с участием тех же лиц, скандал с тяжелыми, брошенными прямо в присутствующее здесь лицо обвинениями, ответный удар, ведьмовской хохот и громкое хлопанье дверью, но промолчала.
— Где мой дерзкий и невоспитанный сыночек? — спросила мачеха уже в прихожей. — Йорик, не смей прятаться под стол! — крикнула она. — Не делай вид, что ты очень занят и творишь нечто бессмертное! Ты опять там малюешь голых девок? Выходи немедленно и поцелуй свою мамулю!
Из мастерской показался взлохмаченный Иероним, действительно выглядевший по-детски виновато.
— Ну, гадкий мальчишка, — строго сказала мачеха Тамара, — будем мириться? Или так и будешь смотреть на меня букой?
— Плохой мир всегда лучше хорошей войны, — проговорил Иероним.
— Ради тебя я сегодня в белом, как белый флаг, — сказала Тамара. — Ты это оценил?
Она крутанулась вокруг своей оси, как бы показывая, что спина у нее тоже белая. На самом деле было видно, что она с удовольствием продемонстрировала себя со всех сторон.
Уверенным движением руки она притянула к себе пасынка и громко чмокнулась с ним под одобрительные звуки, издаваемые Виленом Сергеевичем. Иероним был явно не готов к такому напору мирной делегации. Ему оставалось только рассеянно подчиняться.
— Анечка, вы плохо следите за мужем, — заметила мачеха Тамара. — Борода торчит, усы не подстрижены, рта не видно. Хотя целоваться с бородатым мужчиной очень приятно, — захихикала она. — Что-то в этом есть первозданное, первобытное. Чувствуешь себя какой-то дикой кошечкой. Мур, мур, мур…
Иероним вел свой джип, пристроившись в затылок «вольво» Пафнутьева.
— В старом «вольво» хотя бы был свой неповторимый силуэт, — говорил Иероним, как обычно говорит водитель любому сидящему справа от него пассажиру. — А последнюю модель уже не отличить от остальных. Какой-то диверсионный проект со стороны конкурентов. Обезличка, потеря бренда…
— Может быть, ты и прав, хотя я в этом ничего не понимаю, — сказала ему Аня и вдруг почувствовала, как она устала от таких странных отношений, от этой постоянно выдерживаемой Иеронимом дистанции, совсем как между идущими сейчас друг за другом машинами. Эта ничем не примечательная фраза, только что произнесенная ею, как ни странно, очень много говорила об их нынешней семейной жизни. Это была некая словесная модель ее отношений с Иеронимом, словесный символ.
«Ты вдруг провел между нами черту, — думала Аня. — Ты словно испугался любви, которой мы только и жили, счастья, в котором мы купались, словно в деревенской речке у самого дома. Ты почему-то решил, что быть любимым и счастливым неприлично, греховно. Нет, не так! Ты словно почувствовал, что слишком красивая любовь и откровенное человеческое счастье недолговечно, случайно. Оно обязательно привлечет темные силы. Мировое зло почувствует где-то торжество света, кусочек голубого среди затянутого черными тучами неба, и пошлет туда свои летучие орды. Ты поверил в эту идею, решил жить в ожидании беды, занялся маскировкой нашей счастливой жизни под убогое, пошлое существование двух едва выносящих друг друга людей?.. Что же, может быть, ты и прав, только я в этом ничего не понимаю…»
Машины текли по транспортной артерии — проспекту Энгельса — медленной, старческой кровью. Потом и вовсе образовался тромб, возникла пробка. Но город не умирал, он, может, давно умер, но никто этого не замечал. «Некрополь», — Аня вспомнила свой сон с философом Чаадаевым, про которого она никогда ничего уже не напишет.
За Озерками, за кольцевой дорогой, Иероним стал маневрировать и вырвался вперед. Вилен Сергеевич не упирался, не лихачил, он приветливо помахал Ане в боковое стекло и пропустил их джип вперед. Иерониму зачем-то понадобилось уйти в отрыв. Он старательно обходил одну за другой самые строптивые иномарки, все дальше и дальше отдаляясь от темно-лилового «вольво» Пафнутьева. Аня не просила его ехать помедленнее, она вдавилась поглубже в кресло и предоставила себя водительскому умению мужа и судьбе. Видимо, Иерониму хотелось приехать к родному дому первым, без мачехи и Пафнутьева.
Мужу удалось создать отрыв минут в двадцать. Они свернули на знакомую улицу и остановились перед родной калиткой, за которой вместо огромного, обветшавшего старика с причудливо нахлобученной крышей, обвешанного множеством необязательных архитектурных деталей, с двумя бельведерами, чернели прокопченные останки и выставленные на белый свет каменные своды полуподвала с металлическими дверями и решетками. Словно какой-то Копперфильд накрыл дом черным покрывалом, чтобы продемонстрировать свой знаменитый фокус с исчезновением недвижимости, но что-то у него не сработало, замкнуло, рухнуло. Фокус не получился, а черное покрывало так и осталось.
Аня подошла к обгорелым останкам. Через еще не выветрившееся удушливое дыхание пожарища она чувствовала запахи комнат, гостиной, кухни, спальни, мастерской… Или ей это только казалось?
— Ты плачешь? — удивился внешне совершенно спокойный Иероним.
— Так, немного… Что-то стало грустно. Старик ко мне хорошо относился.
— Отца имеешь в виду?
— Вообще-то, я говорю про старый дом Лонгиных, — ответила Аня. — Но ты сейчас сказал про Василия Ивановича, и я поняла, что не разделяла их — человека и его дом. Может, это глупости. Ты так, конечно, и подумал. Но я совсем мало общалась с твоим отцом. Он умер через три месяца после нашей свадьбы. Я с ним никогда толком и не разговаривала. Обменялись несколькими фразами и все. Мне потом казалось, что душа Василия Лонгина бродит по дому… Нет, не то. Как бы тебе объяснить? Я их никак не разделяла — твоего отца и твой дом. Я даже не совсем почувствовала смерть Василия Ивановича, потому что его часть была жива. Так говорят, обычно, про произведения художников, их творения. Помнишь? «Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит…» Душа твоего отца была в этом доме. Нельзя было ее тревожить, спорить, делить коллекцию. Все должно было остаться как есть. Поэтому такое странное завещание. Василий Иванович чудачил, но он, мне кажется, намекал нам, живущим еще обычной жизнью, чтобы не трогали его душу… А теперь он умер. Душа его умерла.