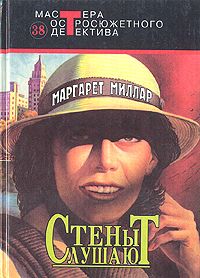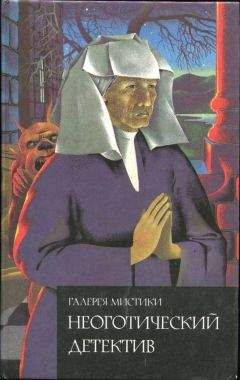Маргарет Миллар - Кто-то в моей могиле
— Когда-нибудь, прожив на свете достаточно лет, вы убедитесь в этом сами.
— Доброй ночи, мистер Финчли.
— Поторопитесь доехать до ворот, пока Гарольд не вернулся.
Хотя Дэйзи включила в машине печку и приемник, казалось, что она не чувствует тепла и не слышит музыки. Она только сказала:
— Прошу вас, поедемте поскорее отсюда.
— Вам было бы лучше зайти со мной в дом.
— Я не хотела мешать вашей работе. Что же вы обнаружили?
— Так, кое-что.
— Вы не хотите мне об этом рассказать?
— Думаю, что должен это сделать.
Он рассказал ей все. Она молча слушала под мерный шум щебня на дорожке, шедшей по холму за часовней. Стемнело. Органист ушел, и от музыки его не осталось и следа. Райские птицы молчали, деревья потеряли последние свои листья, цветы плакали в густом тумане.
Гарольд, придерживая рукой распухшую челюсть, посмотрел на проехавшую мимо машину и закрыл ворота. День закончился, и было чудесно ощущать себя дома.
9. Даже когда она говорила о любви, в ее голосе звучала горечь,
как будто какой-то физический недостаток стал причиной
нашей любви и она ничего не смогла поделать, словно виной всему
была слабость тела, порицаемая ее духом
В наступившем сумраке были хорошо видны огни приближающегося города, рассыпавшиеся нитками и созвездиями вдоль моря и шоссе, они уменьшались в количестве, забираясь все выше на холмы. На самом верху они казались одинокими звездами, упавшими с неба на землю, но все еще горевшими. Пината знал, что ни один из этих огоньков не горит в его доме. Там никого не было: ни Джона, ни Моники, ни даже миссис Дубрински, которая уходила ровно в четыре, чтобы позаботиться о своей родной семье. Он почувствовал, что выброшен из жизни так же, как Камилла, лежавший в могиле под огромным деревом, такой же опустошенный, глухой к шумящему морю, не способный увидеть брызги волн.
«На кой нужен этот вид, — сказал старик, — если уж помер?»
«Что ж, вид перед нами, — подумал Пината. — Я любуюсь им, но не могу стать его частью. Ни один из этих огоньков не зажегся для меня, и если кто-то и ждет моего прихода, так это какой-нибудь пьяница в городской тюрьме, жаждущий выбраться и купить новую бутылку».
Рядом с ним неподвижно и молчаливо сидела Дэйзи, так, будто она не думала совсем ни о чем или размышляла о многих вещах с такой скоростью, что, преодолев звуковой барьер, она погрузилась в молчание. Он взглянул на нее и вдруг захотел сделать что-нибудь неожиданное, ужасное, из ряда вон выходящее, чтобы только привлечь ее внимание. Но буквально через секунду эта мысль показалась ему настолько абсурдной, что он похолодел от ярости: «Господи! Да что это со мной такое? Должно быть, я схожу с ума. Джонни. Я должен думать о Джонни. Или о Камилле. Пожалуй, последнее безопаснее. Думай о Камилле, лежащем в могиле Дэйзи».
Он умер, и Дэйзи приснилось, что это ее собственная могила, — это как раз можно объяснить. Все остальное объяснить невозможно, если только у Дэйзи не способности экстрасенса, что, скорее всего, не соответствует действительности, или у нее уникальный талант в равной степени успешно дурить себя и других. Вот последнее, пожалуй, более всего походило на истину, но сам он в это не верил. Чем лучше он ее узнавал, тем больше его поражала ее исключительная наивность и невинность, словно она ухитрилась каким-то образом пройти по этой жизни, ни до чего не дотронувшись и не позволив никому дотронуться до нее самой. Она напоминала ребенка, бредущего по магазину, где невозможно дотянуться ни до одного предмета и все они не продаются, а манекены-продавцы стоят за зеркальными стеклами и ничего не продают. Неужели «Дэйзи, детка» была слишком дисциплинированна, чтобы выразить протест, слишком послушна, чтобы потребовать? И неужели сейчас она потребовала, в данном конкретном случае, чтобы стекло убрали, а манекены-продавцы принялись за работу?
— Этот человек, — наконец нарушила она молчание. — Как он умер?
— Самоубийство. В его карточке было отмечено sui mano — «от руки своей». Подозреваю, кто-то подумал, что если написать на латыни, то можно снять проклятие.
— Значит, он убил себя. Еще хуже.
— Почему?
— Может, я имею какое-то отношение к его смерти. Может, я несу ответственность за то, что он умер.
— Все это чересчур сложно, — спокойно ответил Пината. — Вы пережили шок, миссис Харкер. Самое лучшее для вас сейчас — перестать беспокоиться, отправиться домой и хорошенько отдохнуть.
«Принять, в конце концов, снотворное, — мысленно добавил он, — опрокинуть стаканчик или закатить истерику, ну что там еще устраивают женщины в подобных обстоятельствах. Моника обычно плакала, но я не думаю, что ты, „Дэйзи, детка“, последуешь ее примеру. Ты будешь в печали сидеть и размышлять над случившимся, и один Бог знает, куда это тебя заведет».
— Камиллу вы никогда не встречали? — задал он ей вопрос.
— Никогда.
— Тогда каким образом может существовать связь между вами и его смертью?
— Каким образом может? Мы больше не говорим с вами, мистер Пината, о том, что может быть, а чего не может. Было невозможно предположить, что я знаю точную дату его смерти. Но это так. Реальный факт, а не нечто, созданное женщиной с чрезмерным воображением или истеричкой, хотя до последней минуты вы полагали, что имеете дело именно с такой особой. То, что я знала день смерти Камиллы, несколько изменило наши отношения. Правда?
— Да. — Ему хотелось сказать ей, что их отношения изменились куда больше, чем она могла предположить, изменились настолько, что ей лучше было бы умчаться обратно на гребень успеха, под крылышко к мамочке и Джиму. И она обязательно побежит. Вопрос лишь в том, как скоро и как быстро? Он посмотрел на собственные руки, крепко сжимавшие руль машины. В тусклом свете приборной доски они казались коричневыми. «Она обязательно победит, — подумал он, — очень быстро и очень скоро». Она сделала бы это, даже если бы не была замужем. Эта мысль болью отозвалась у него в голове, словно она уже бежала прямо по его сердцу, оставляя раны острыми подошвами шиповок.
Она снова заговорила о Камилле, покойнике, который уже занимал в ее жизни гораздо больше места, чем когда-либо удастся занять ему, несмотря на молодость и энергию. Живой, сидящий рядом, полный стремлений, он не мог соревноваться с никому не известным человеком, лежавшим под смоковницей на краю утеса. «Я рядом с ней, в нашем общем пространстве и времени, — подумал Пината, — но Камилла стал частью ее снов». Он начинал ненавидеть это имя. «Черт бы тебя подрал, Камилла, маленькая кровать…»
— Я отчетливо чувствую, что причастна, — призналась она, — даже виновата в чем-то.
— Комплекс вины довольно часто возникает в связи с вещами, не имеющими никакого отношения к конкретным происшествиям или людям. Ваш комплекс тоже может не иметь никакого отношения к Камилле.
— Я все же полагаю, что имеет. — Твердость ее казалась чрезмерной, будто она сама хотела поверить в самое худшее о себе. — Довольно странное совпадение: оба имени мексиканские, сначала этой девушки, Хуаниты Гарсиа, а теперь Камиллы. Я редко встречалась, почти не встречалась с мексиканцами, кроме тех, кто приходил в клинику. Дело не в том, что я отношусь к ним с предубеждением, как мама, просто у меня никогда не было возможности познакомиться с кем-то из них.
— То, что у вас «никогда не было возможности познакомиться», означает одно: вы не могли проверить на практике наличие или отсутствие у вас предубеждения. У вашей матери, возможно, такой шанс был, и она по меньшей мере достаточно откровенна, признавая это.
— А я неоткровенна?
— Я этого не говорил.
— Намек ваш был очевиден. Может, вы думаете, что я выяснила, когда погиб Камилла, задолго до сегодняшнего дня? Или что я знала его самого?
— И то и другое приходило мне в голову.
— Конечно, не доверять мне легче, чем поверить в невозможное. Я никогда не встречала Камиллу, — повторила она. — Чего ради я должна говорить вам неправду?
— Не знаю.
Он попытался, но так и не сумел назвать себе причины, по которым она должна была ему врать. Он для нее ничего не значил; ей было наплевать на его одобрение или неодобрение; она не пыталась оказывать на него влияние, соблазнять его, убеждать или производить на него впечатление. Он значил для нее не больше, чем стенка для метания мячей. Зачем врать стенке?
— Очень жаль, — сказала она, — что вы встретили моего отца раньше, чем появилась я. Ведь вы подозревали меня еще до того, как увидели, были предубеждены. Я и отец нисколько не похожи, хотя мама любит повторять, что мы копия друг друга, правда, когда она сердится. Она заявляет, что я похожа на него как две капли воды. Правда?