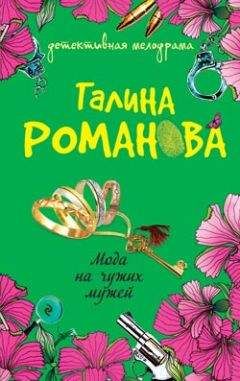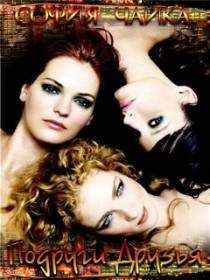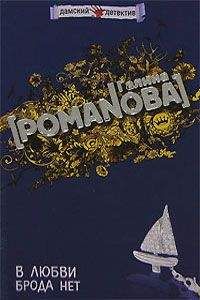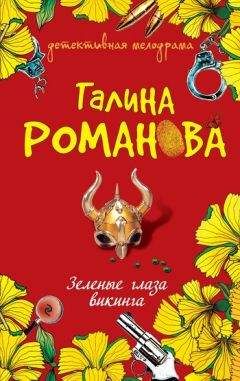Галина Романова - Охотники до чужих денежек
Ему вот, Даниле, никто такой привилегии не даровал. Был он изначально и пожизненно заклеймен жизнью как «народная масса». Кто-то скептически изогнет бровь: мол, что это такое? Мол, не существует такого понятия. Вернее, оно существует, но не как социальный класс...
Черта с два, господа! Она была, есть и будет существовать вечно и именно как социальный слой. Фундаментальный слой во имя и на благо сильнейших и умнейших мира сего. И видится она ими с высоты их незыблемого аристократического полета как нечто безликое, серое и копошащееся где-то внизу, куда взор их падает лишь изредка, да и то если из этой серой массы выползет какой-то наглый выдвиженец и начнет вдруг отчаянно мозолить им глаза.
Сначала взор их наполняется недоумением. Затем, возможно, интересом. Но все же чаще подобные выползни вызывают у них раздражение.
Каждый сверчок должен знать свой шесток!..
Об этом ему всю жизнь твердила его мать – Вера Васильевна, провлачившая свои шестьдесят лет тягловой лошадью, не знавшей сладкого куска, а знавшей лишь понукание и кнут. То санитарка в больнице, то уборщица в магазине, то дворничиха в их дворе.
Данила любил ее, но очень часто ее слепая покорность судьбе вызывала у него приступы ярости. Ну нельзя же быть такой курицей! Неужели она за всю свою жизнь не поняла главного: не делает судьба подарков быдлу. Не было этого никогда и не будет! Там, наверху, в небесной канцелярии, распределение жизненных благ тоже идет своим размеренным порядком. Так что здесь – на земле, коли имел несчастье родиться сирым и убогим, то уж работай локтями, дружок.
Данила понял это очень рано. Да, он старался не замечать, с каким презрением глядели одноклассники на его старенькие вещи. Да, он не слышал унижающий шепот за спиной. А если слышал, то плохо было тому, кто осмеливался над ним посмеяться. Но подобные методы самоутверждения его совсем не радовали. Ему очень хотелось, чтобы его любили и уважали не за силу и умение работать кулаками, а за что-то еще. За что-то хорошее и благородное. Да просто за то, что он человек, черти бы их всех побрали! Что он такой, какой есть: простой русский парень – Данила Емельянов. Не семи пядей во лбу, но далеко и не дурак. Не трус и не Иуда. Никогда ни за чьи спины не прятался, а за все держал ответ. Вот именно тогда и пришла ему в голову сумасбродная идея – стать героем своего времени.
В жизни, как известно, всегда есть место подвигу. А когда рядом повсюду «горячие точки», для того чтобы стать героем, многого не надо. Данила особо не досаждал себе извечным вопросом: «Что делать?» Он просто пошел в военкомат, когда ему стукнуло восемнадцать, и попросился в Чечню.
– Зачем тебе это? – поинтересовался тогда военком, внимательно выслушав его просьбу. – Девчонка, что ли, бросила? Смерти ищешь или к мародерству склонен?
На это Данила просто и без затей ему ответил, что хотел бы послужить Родине. Видимо, патриотизма зачерствевшая душа военкома не была лишена, потому как, отслужив полгода в учебке, Данила попал на Кавказ.
И вот тут-то ему и довелось узнать истинную цену и геройству, и трусости, окунуться в атмосферу солдатского братства и в полной мере познать вкус подлости и предательства.
Школа мужества... Так часто называют армию военные корреспонденты, посещающие взводы и дивизионы, подолгу беседующие с солдатами и офицерами, великодушно передающие приветы их родственникам. Да, фасад у армии, может, слегка и потускневший, но все же мужественный.
На самом же деле...
Видел бы кто, как мочится в штаны под перекрестным огнем противника бравый сержант. Как исступленно чешется в окопе заеденный вшами мужественный рядовой такой-то, понося при этом и свою Родину, и всех тех, кого он призван защищать... И как сволочно бывает на душе, когда осознаешь, что за кусок хлеба ты готов на любую гадость, лишь бы втянуть ноздрями этот кисло-сладкий запах свежеиспеченного каравая...
– Данила, сынок, – вклинился в его поплывшие мысли вкрадчивый голос матери. – Хватит уже! Почти пустая бутылка-то! Что ты будешь с ним делать, господи!
Не прореагировав на слова матери ни жестом, ни взглядом, Данила вылил остатки водки в стакан и, подняв его повыше, криво ухмыльнулся:
– За героев, мать их! За настоящих героев!
Настоящих героев ему узнать довелось. Это была не бесшабашная храбрость, сдобренная спиртом и подстегиваемая русским «авось». Нет, эти парни действительно были героями. И шли в бой почти с голыми руками. И глаза их не были замутнены спиртным. В них, в глазах этих, было что в омутах: темно, бездонно и... безнадежно. Ребята шли на смерть и знали это. Но повернуть назад, швырнуть оземь автомат и послать «на хер» своего командира они не могли. И не воинская присяга тому была причиной, и не Родина, которую они якобы призваны защищать.
Нет, это было нечто большее. Это было то, что неподвластно пониманию гражданского человека. Это был безумный дух войны, вселяющий в души русских солдат уверенность, что именно так следует действовать, поступившись собой. Что по-другому просто-напросто он не сможет. Он потом не сможет жить с мыслью о том, что не сумел перешагнуть через самого себя, через свой собственный страх, через инстинкт самосохранения.
Данила переступил...
Тот бой, который все сломал в его жизни и сознании, снился ему каждую ночь. Он видел взрытые пулями тела. Слышал стоны. Чувствовал запах смерти: приторно-сладкий и ужасающий. Он через все это прошел. Это было дико и до безумия страшно. Человеческое в тот момент отмерло в нем, и из недр души прорвался зверь.
Он, Данила, орал что-то вместе со всеми. Просто безумно орал, не понимая и не отдавая себе отчета в том, что исторгает его осипшее горло.
Он давил изо всех сил на гашетку, зная только одно: он должен. Он не может повернуть назад, хотя уже почти час прошел, как и команда такая поступила. Он не может бросить ребят, что умирали вокруг него. Ради их душ, взметавшихся в ту самую минуту к небесам, он косил пулеметными очередями наступающих чеченских боевиков, совершенно утратив чувство реальности. Оно вернулось к нему много позже.
Реальность накатила отрезвляющим холодным душем, подступившей к горлу тошнотой и безудержным ужасом, заставившим его тело трястись словно в лихорадке.
Никогда прежде он не знал, насколько жутким может быть одиночество. Он полз несколько километров на животе, боясь поднять голову и стать мишенью для снайпера. Скажи ему в тот момент, что во время боя он стрелял, стоя почти в полный рост, Данила не поверил бы.
Потом накатил голод.
Это чувство было куда ужаснее страха смерти. Он не помнил и не понимал в тот момент ничего. Все желания угасли тогда в его организме, кроме сосущего желания съесть хоть что-нибудь. Темные круги перед глазами... Давящая пустота в желудке... И это растаптывающее, уничтожающее тебя, как личность, желание куска хлеба. Это было унизительно. Это было проявлением слабости. Это было то, чего он никогда не мог себе позволить. Проявлений слабости он не прощал никому, себе – в первую очередь.
Да, он выжил. Он выполз из окружения. Он вышел к своим. Его ребята плакали, обнимая его, грязного, заросшего и вонючего. Он плакал вместе с ними, сам не понимая причины своих слез. Потом было много всего: и откровенного восхищения со стороны парней, и подозрительного недоверия, когда пришлось отвечать на вопросы особистов. Это было непросто, но это можно было пережить. Но чувства, заставившего его усомниться в себе, Даниле не забыть никогда.
Оно выбило почву у него из-под ног, сделало слабым и уязвимым. Это его пугало. Уверенность в том, что любая боль ему по плечу, испарилась под натиском всепоглощающего чувства голода...
Уже потом, много времени спустя, он научился диктовать волю своему организму. Приучил его обходиться без пищи и воды и почти уже справился с самим собой. Задушил тот стыд, что ему приходилось испытывать всякий раз при воспоминании о том, как он выбирался из окружения. Он почти уже справился с этой бедой, как на смену ей пришла новая...
– Сынок, – голос матери вновь прозвучал над его головой. – Пойдем, я уложу тебя в постель.
– Нет! – Он с силой грохнул кулаком о стол. – Оставь меня!
– Господи! – Мать опустилась на табуретку и, спрятав лицо в передник, заплакала, запричитала: – Разве же знала я, откуда беды ждать?! Думала, с войны дождусь живого, больше ничего мне не надо, а тут новая напасть!.. Сына...
– Ну?! – Данила тяжело поднял голову от столешницы и взглянул на мать. – Чего тебе?! Чего ты жилы из меня тянешь, мать?! Не могу я без нее, понимаешь?! Может, это все, ради чего я живу на этой земле, понимаешь?!
– Нет, – отчаянно замотала она головой. Слезы горошинами катились по ее лицу, утопая в складках тяжелого подбородка. – Не понимаю! Когда ты мне рассказывал о войне, я все понимала. Все! Даже не поморщилась, когда ты рассказывал о том, как съел живую мышь...
– Заткнись, мать! – Данила сморщился, вновь потянувшись к хлебу и к солонке. – И уйди лучше!