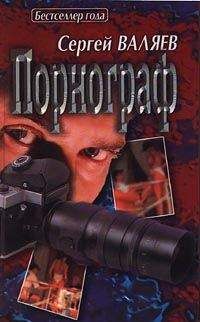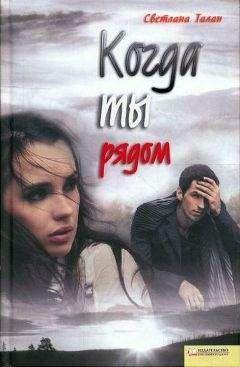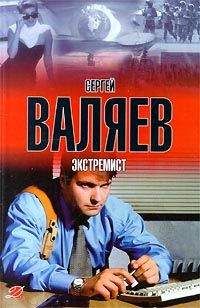Сергей Валяев - Провокатор
Плата за власть.
Облака были осенние, ординарные. М., режиссер Первого революционного театра, прятал рафинированное лицо от мороси в твердую телячью кожу воротника комиссарской куртки — куртку подарил Величко. Он навел справки о Величко. О Величко он толком ничего не узнал. Или узнал все: человек с барбарисовыми от бессонницы глазами на вопрос отвел взгляд и ответил строго, что сведениями не располагает, но, прощаясь, щелкнул пальцами и улыбнулся, человек в ромбах; он совершил больше, чем подвиг, он щелкнул пальцами; щелк! — как выстрел. И теперь М., сдирая с птичьих плеч колом стоящий подарок комиссара, понимал: Величко нет. Он был и его нет, осталась лишь выскобленная донельзя телячья шкура. И это все? Нет, сохранилась газетка, и в ней — ор Величко: «Попробуйте изолировать ребят от таких событий, как процесс вредителей! Среди детей, которых я знаю, помилование вредителей вызвало целую бурю негодования. Как же так, предали страну, хотели обречь на голод рабочих и крестьян и не были расстреляны?»
М. увидел свои руки, они лежали, чужие, на столе, и в них пульсировала засиненная венами, умирающая кровь. Первое, что сделают, подумал он, перебьют пальцы; и услышал тишину. В его театре — и тишина? Разве можно расстрелять театр? Театр-труп? Он сжал пальцы, они еще могли душить; он стремительно бежал по темному коридору — никого-никого-никого, он выбегает на сцену. Никого? Но пиликает скрипка из оркестровой ямы конституционные звуки скрипичного смычка.
— Эй-е-е-е!.. Эй-е-е-е! — Крик ярости неистребим; театр нельзя расстрелять. — Эй-е-е-е!.. В яме?!. Кого хороните, душеприказчики!
— О! Мастер! О! Мэтр! Ты?.. — Из подпола карабкается Сигизмунд, он лыс, мясист, лоцмейстер оркестра; он добр и вечен. — О, люди! Люди сказали, у Мастера сердце! И я им поверил! Тьфу… Как я мог людям поверить? Какое может быть сердце?..
— Что сердце? Душшша!
— Вот-вот! Я в текущем моменте спрашиваю себя: Сигизмунд, где ж твоя душа? И имею на это ответ: ушла от страха в пятки. Тс-с-с!.. Но я ее грею, грею… — Наконец выползает на подмостки; ноги его обуты в валенки, большие, не по размеру. — И моему ревматизму по всему телу хорошо. И мне…
— Ты лучше скажи, золото мое, где актеры? Где?.. Почему я не вижу работы?.. Что пр-р-роисходит?.. Где театр?
— Что на это может сказать старый, глупый и бедный еврей Сигизмунд? Что он вообще может сказать? Он может сказать: когда взяли Рубинштейна из Большого, всем сделали предупреждение — враг народа, и я поверил: Рубик из Большого — враг; когда взяли Гордона из Малого, я тоже поверил — Гордон есть вредитель и саботажник; когда ж взяли Осю с Эстрады и сказали: Ося есть наймит иностранного капитала, тогда я сказал себе: Сигизмунд, вспомни пословицу.
Когда тебе один раз сказали, ты поверил; когда сказали то же самое второй раз, ты засомневался, когда же в третий раз… то же самое… Сигизмунд — может, ты уже враг народа?.. Ты сидишь в яме?.. И почему ты сидишь в яме?.. Кому ты выкопал эту яму?.. Себе?.. Ты всю жизнь сидишь в яме, и никто не знает, что ты там играешь… Может, ты давно уже играешь на руку врагов всего трудового народа? Никто ж не знает, что ты там пиликаешь на скрипочке или как ты там махаешь дирижерской палочкой. А если ты этой палочкой передаешь всяким вредным шпионам сведения о количестве красных командиров и бойцов на спектаклях? Ты этой палочкой считаешь сапоги и ботинки Красной Армии? И по этой обуви очень возможно просто считать, сколько в РККА танков, аэропланов, конской силы и сколько километров окопов прорыто вдоль всей границы…
М. идет по проходу партера к режиссерскому столику, он слушает и не слушает дирижера, он вспомнил и теперь знает, почему мертв театр. Он садится в кресло, включает лампу в изумрудном абажуре, дзинь-дзинь-дзинь изнеженный голос колокольчика.
Меня будут бить, подумал М., бить литыми резиновыми палками. Из меня будут выбивать звук. Дзинь-дзинь-дзинь. Вы агент царской охранки? Дзинь. Какого характера ведешь, блядь, политические разговоры? Дзинь. Совершаешь, враг народного искусства, порой неожиданные и вредные скачки от живой жизни в сторону классического прошлого? Дзинь.
Начиналась жизнь сусальной сказкой, а кончается сальным анекдотом. Нужно влезть в чужую шкуру, чтобы сохранить свою. Что же делать?
И спасает ли верноподданническая шкура?
А может, он на самом деле — агент царской охранки? А почему бы и нет? Его будут бить по ногам литыми резиновыми палками — и он признается: да, тайный агент Третьего отделения.
Какие он ведет разговоры в кругу семьи, на улице, в авто, во вверенном ему театре? Ему под глазурованные ногти вкрапят иголки — и он тут же признается: да, вел аполитичные разговоры в кругу семьи, на улице, в авто и вверенном ему театре. Например: на ближней даче товарища Сталина проживает молодая, сочная комсомолка. По ночам она вместе с вождем изучает Краткий курс истории.
Человек не становится свободным от того, что на его знамени начертаны свободолюбивые идеи, говорит товарищ Сталин, и он, М., полностью солидарен с ним. Да здравствует товарищ Сталин и его бессмертное учение!
А вот как быть насчет неожиданных и вредных скачков от живой жизни в сторону классического прошлого, гражданин режиссер? Прошлого у народа нет, такое прошлое, как у нашего народа, надо взорвать и выжечь каленым железом. Вы выражаете несогласие? А если мы — по яйцам, по яйцам. Ах, вы уже согласны, что у нашего народа есть только настоящее и дистиллированное счастливое будущее.
Да, мы вынуждены пускать кровь. Революция должна уметь защищаться, говорил великий Ленин. Мы только выполняем великий завет Ильича. Генеральная линия текущего момента: найти и обезвредить врага! Никаких обжалований, никаких помилований, расстреливать немедленно по вынесении приговора!
Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы!
Умрем, как один, за счастливое будущее наших детей!
«…детство подсудимого Кулешова было беспризорным, мальчик не получил в достаточной мере ласки и заботы, и поэтому произошла эта страшная трагедия» — с таким пафосом писала заметку из зала суда собкор О. Александрова.
Верно, О. Александрова — моя жена. Когда супруга работает в бульварной газетенке, то чувствуешь себя однозначно холостым.
— Оксана, остановись, — требую я каждый раз, когда любимая жена собирается в очередную командировку. — Посмотри на себя. Ты разве баба? Ты не баба — у тебя ноги марафонца, грудь девальвирует, как рубль, и где, прости, твоя задница, помнится, на студенческой скамье она была заметна для моего минусового зрения?
— Купи слуховой аппарат, — шутит О. Александрова, переворачивая квартиру вверх дном.
— Так жить нельзя, — брюзжу я и снимаю с печатной машинки штопаный бюстгальтер. — У тебя психология гонца. Кстати, раньше гонцу за плохие известия отрубали голову.
— Мы несем только добрые известия! — кричит из комнаты любимая. — Ты не встречал лифчик?
— Встреча состоялась, — отвечаю. — Купи себе, пожалуйста, приличное нижнее белье.
— На что? — вбегает на кухню О. Александрова. Грудь у нее холеная и холодная. — Прекрати лапать.
— Не оплатим квартиру, а купим тебе…
— Нет, тебе, — смеется, — куплю трусы. Кумачовые.
— Зачем?
— В каком смысле, Александров?
— В смысле цвета.
— Ты у нас патриот. Пришла, говорят, директива: все патриоты должны носить кумачовые трусы.
— Что за аполитичные речи, собкор? Чему вы учите молодежь на страницах вашей газетки?..
Я хочу развить нужную мысль, но не успеваю — журналистка ойкает, точно так она кричит в постели, когда я, уловив нечаянный случай и ее новобрачную грудь, покушаюсь на девичью честь.
— В чем дело? — удивляюсь.
— Ой-ой-ой, — причитает, роясь в сумке, — совсем забыла, миленький! Завтра суд. Судят одного урода. У меня заметка готова. Только приговора нет. Пойди-пойди, я тебя прошу. Твоя девочка просит.
— Не пойду я, — отвечаю. — Занят.
— Чем занят?
— Работой.
— Работой? Сутками стучать на машинке, дятел!
— Так вот, да? — обижаюсь.
— Ну пойди к людям, — ластится. — Они хорошие. Они не кусаются. Выслушаешь приговор — впиши. И отнеси в редакцию.
— День потерян.
— Один денек ради меня? — Чмокает в щеку.
— Ну хорошо, — сдаюсь. — Но больше не называй меня птицей.
— Ой, моя радость! Конечно же! Я буду называть тебя только по имени и отчеству. А по возвращении подарю трусы.
— Прекрати! — реву я.
Но она упорхнула, О. Александрова, дурочка, собкор, жена и гонец за сенсациями. А я остался один, как птица на дереве. Некоторые птахи, утверждают орнитологи, живут триста — четыреста лет.
«Сколько мне жить? — спросил себя М., слушая скрипку старого еврея. Во мне живет страх смерти, — думал М. — Почему я боюсь смерти? Все равно когда-нибудь буду умирать. Дело в том, что у нас отобрали все, даже право на смерть. Я бы хотел умереть на досках сцены, но мне не дадут на них умереть». Смерть героя не нужна. Требуется смерть агента царской охранки. Но не смерть шута — самовольная смерть шута есть вызов стальной власти. Сколько лет шут ходил, ползал, бегал по доскам сцены. У шута руки в занозах. У него сердце… Он его уже чувствует. Да, он часто страдает. У него слишком развито самосознание. Это, оказывается, товарищи, плохо в период реконструкции. Он часто в разладе с миром, в разладе с самим собой. Но что же делать? Он таким родился. И таким умрет.