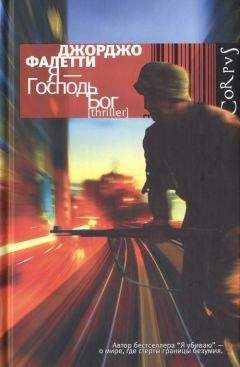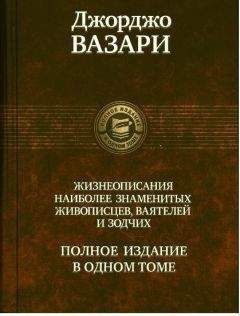Джорджо де Кирико - Гебдомерос
«Вот здесь», – произнес Гебдомерос, остановившись перед друзьями в позе предусмотрительного офицера, жестом рук сдерживающего порыв своих солдат. Он стоял на пороге просторной, с высоким потолком комнаты, отделанной по моде 80-х. Абсолютно лишенная мебели, своим освещением и общей тональностью она напоминала игорные залы Монте-Карло. В углу, под скучающим взглядом мэтра, экс-гладиатора с профилем черного грифа и телом, покрытым шрамами, уверенно упражнялись двое в масках. «Гладиаторы![2] Это слово содержит в себе тайну», – прошептал Гебдомерос, обращаясь к самому молодому из спутников. Он подумал о варьете, о светящемся потолке зала, воскрешающем в памяти видения дантовского рая; подумал он и о дневных гладиаторских боях в Риме, когда к концу представления клонящееся к закату солнце увеличивало тень от огромного занавеса на арене, от которой поднимался запах пропитанных кровью песка и опилок…
Римское зрелище, древняя свежесть.
Томленье вечернее, песня морская.
Еще несколько обитых дверей и коротких, пустых коридоров, а затем внезапно: Общество, Вступление в Общество. Ведение светского образа жизни. Правила общества. Умение жить. Членский билет. У. В. (условия выхода). В. С. Р. (в собственные руки). Б. Л. П. С. (будьте любезны перевернуть страницу). В углу салона огромный рояль с открытой крышкой; не приподнимаясь на носки, можно было разглядеть его сложные внутренности, его анатомию; нетрудно было представить, какая катастрофа произойдет, если один из канделябров со всеми зажженными свечами, свечами голубого и розового цвета, упадет внутрь рояля. Какое бедствие в бездне звуков! Какое препятствие для четкой работы обтянутых фетром молоточков стекающий по натянутым, как лук Улисса, металлическим струнам воск! «Лучше об этом не думать», – произнес Гебдомерос, повернувшись к своим друзьям, и тогда все трое, словно в предчувствии опасности, взялись за руки и стали пристально, в полном молчании следить за этим необычным спектаклем; они представляли себя гостями усовершенствованной субмарины, с изумлением наблюдающими через иллюминаторы корабля за таинственными превращениями океанической фауны и флоры.[3] Во всяком случае, спектакль, представший их взорам, имел определенное сходство с подводным миром; но не только рассеянный свет, убивающий тени, заставлял их думать об огромных аквариумах; над всем происходящим зависла странная, необъяснимая тишина; и пианист, тот, что, сидя за роялем, играл, не издавая звуков, будучи к тому же невидимым, поскольку в нем не было ничего, что стоило бы видеть, и те участники драмы, что с чашечками кофе в руках, будто в замедленной съемке, двигались вокруг фортепиано, все эти персонажи жили в особом мире. Они не ведали ни о чем, ни о чем не рассуждали, никогда не говорили ни о войне в Трансваале, ни о катастрофе на Мартинике, они были неузнаваемы, поскольку никогда и недостойны были быть узнанными, они ничем не были озабочены и ничто не могло воздействовать на них – ни синильная кислота, ни стилет, ни покрытая броней пуля. Если некто, назовем его, к примеру, мятежник, замыслил бы поджечь фитиль адской машины, все 50 килограммов содержимого ее сложного механизма горели бы медленно, тлея, как сырые поленья. Было отчего предаться отчаянию. Гебдомерос полагал все это эффектом среды, атмосферы, и не видел никакой возможности изменить положение вещей, поэтому ничего другого не оставалось, как предоставить всему идти своим чередом. Но все же оставался вопрос: существуют ли все эти персонажи в реальности? Ответить вот так сразу, не посвятив несколько ночей глубокому размышлению, как делал Гебдомерос каждый раз, когда им овладевала сложная проблема, было бы трудно.
Он боялся вовлекать своих друзей в дискуссии, ставя перед ними вечные вопросы: что есть жизнь? Что есть смерть? Существует ли жизнь на других планетах? Верите ли вы в метемпсихоз, в бессмертие души, в нерушимость естественных законов, в наличие подсознания у животных, в сны дверных засовов, в то, что все загадочно: и цикада, и голова перепелки, и пятнистая шкура леопарда? Ему не внушали доверия те другие, кто спорил с ним: он опасался проявлений их любви, их пренебрежения, их чувствительности и истеричности; он не желал будить в своих друзьях сложных чувств, и, наконец, больше всего он опасался их восторгов по поводу результатов его работы; такие возгласы, как: это изумительно! невероятно! поразительно! – не доставляли ему ничего, кроме сомнительного удовольствия, которое в конце концов выливалось в раздражение. Единственная его забота состояла в том, чтобы не привлекать внимания; одеваться как все, двигаться незаметно, не чувствовать за спиной пристальных, пусть даже доброжелательных взглядов. О, разумеется, иной раз ему бы хотелось привлекать внимание людей, но иначе. Ощущать чувство превосходства и наслаждаться славой, но не испытывать при этом скуки. Ох уж сибариты!
Пр.: Разбитая ваза была очень дорогой.
Пр.: Закрытая дверь нe поддавалась.
Возьмем пример с разбитой вазой. Легенда о ребенке-страдальце, которого мачеха по малейшему поводу награждает градом ударов, чистый вымысел. В этом легко можно было убедиться, увидев все семейство собравшимся посреди столовой вокруг черепков этой знаменитой родосской вазы, простоявшей на буфете более двадцати лет. Сидя на корточках, словно на невидимых скамеечках, все семеро членов семьи, уставившись в пол, рассматривали ее нежного цвета осколки. Но никто не двигался, никто ребенка не обвинял. Все смотрели на черепки с любопытством, как смотрели бы археологи на обнаруженную в земле статую, а одержимые палеонтологи – на извлеченное цапкой при свете дня ископаемое. При этом обсуждалось, как склеить черепки, и каждый предлагал свое. Кто-то утверждал, что знает умельцев, способных выполнить эту работу с таким мастерством, что не останется даже и следов. Хозяйка же дома (та, которую весь квартал считал настоящим кошмаром для юного Ахилла) была взволнована меньше других и первой разрушила чары созерцания. По мнению старшего брата Ахилла, всех членов семьи околдовал рисунок расположения черепков, образовавших на полу очертание всем известного созвездия, имеющего форму трапеции.[4] Картина опрокинутого неба заворожила до неподвижности всех этих уважаемых господ; и, хотя взгляды их были устремлены не вверх, а вниз, в момент созерцания они превращались в достойных последователей тех первых халдейских или вавилонских астрономов, которые прекрасными летними ночами бодрствовали на террасах, устремив взоры к звездам. В соседнюю же комнату никто не входил. Здесь обитали буфет, серебряный чайник и страх, наводимый живущими в пустых вазах тараканами. Воображение Гебдомероса никогда не отождествляло тараканов и рыб, однако два слова – огромный и черный – пробуждали в нем воспоминания об одной душераздирающей сцене, в духе то ли Гомера, то ли Байрона, увиденной им однажды под вечер с каменистого берега пустынного островка. Эта сцена вызвала у Гебдомероса чувство разочарования, которого он тут же устыдился. Гладкое море великолепно отражало закатное небо. Время от времени, с хронометрической последовательностью, на небольшом расстоянии от берега рождалась длинная волна; она росла, ускоряла свой бег и с глухим рокотом обрушивалась на островок. Время от времени наступали тишина и абсолютное спокойствие. В один из таких моментов Гебдомерос впервые услышал мольбу жены рыбака. Сначала он подумал, что и она, и ее муж находятся в лодке в открытом море, поэтому воспринял слова песни как дурное напутствие рыбаку, как нечто, что рано или поздно неизбежно принесет несчастье этому человеку, постоянно подвергающемуся опасности из-за превратностей погоды.
Сделай из рук моих весла, а из кос моих снасти,
Чтобы огромные черные рыбы не могли пожрать тебя
В глубине темных вод.
К счастью, тревожное состояние Гебдомероса в тот день длилось не долго, поскольку вскоре в тридцати шагах от себя он увидел рыбака, спокойно чинящего весла возле лачуги, распахнутые двери которой прежде скрывали его из виду. Этот эпизод отозвался в душе Гебдомероса смутной печалью, смешанной с разочарованием. Казалось бы, следовало радоваться тому, что рыбак не был съеден огромными черными рыбами в глубине темных вод и спокойно приводил в порядок весла у дверей своей лачуги. Но такова уж человеческая натура: она жаждет драм и трагедий. Мы всегда испытываем чувство разочарования, когда, приблизившись к месту скопления народа, убеждаемся в том, что это всего лишь толпа любопытствующих, окружившая продавца самописных ручек, в то время как издали нам виделась ужасная катастрофа с разбитыми вдребезги машинами и человеческими жертвами; то же чувство испытываем мы, когда наблюдаем, как два субъекта, жестоко оскорблявших друг друга, разрешают свой спор без драки, лишая нас зрелища грубой схватки, на которые так щедр американский кинематограф и, увы, столь скуп европейский.[5] Размышляя над этим, изучая и анализируя состояние своей души, Гебдомерос испытывал такое острое чувство стыда, какого не знал прежде. В гостиницу на ужин он отправился пунцовый, словно невинная девочка, которая, преследуя бабочку, оказалась в кустарнике и столкнулась со взрослой особью мужского пола; особь же эта, согнув и раздвинув колени, опираясь ягодицами на икры ног, готовилась справить нужду столь же внезапную, сколь и естественную.