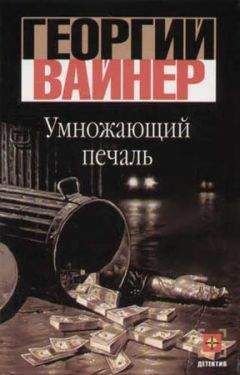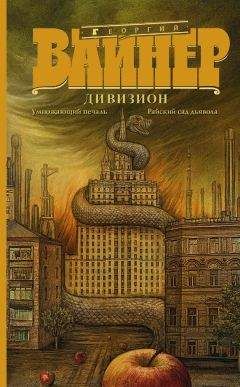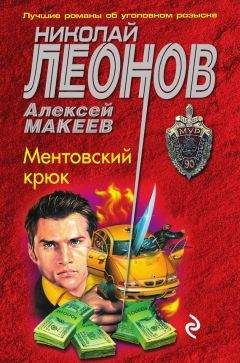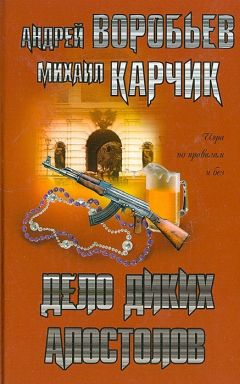Аркадий Вайнер - Умножающий печаль
– Неверие – мука и смертный грех темных духом. Это мне поп, мой сокамерник отец Владимир, сказал. Святой человек, за веру пострадал – пьяный въехал в храм на мотороллере, старосту задавил. Итак, подбивая бабки в моей сердечной исповеди, торжественно обещаю… Как истинно верующий пионер…
– Обещаешь, как будто грозишься, – засмеялась Лора.
Я выдержал страшную паузу, потом отчаянным шепотом возгласил:
– Вот тебе святой истинный крест – никуда не убегу! – Я тяжело вздохнул и смирно завершил: – В смысле – пока не убегу…
– В каком смысле – пока? – заинтересовалась Лора.
От громадности данного обещания я неуверенно поерзал и рассудительно предположил:
– Кто его знает? Может, пока ты меня не выгонишь… Впрочем, и выгонишь – не уйду. Мне все равно идти некуда. Буду тут с тобой мучиться, с наслаждением…
АЛЕКСАНДР СЕРЕБРОВСКИЙ: МУЧЕНИЕ
Марина извивалась, кричала и плакала от сладкой муки, раскачивалась и падала мне на грудь, взвивалась и с хриплым стоном счастья впечатывала меня в себя, и в судороге наслаждения впивалась мне в шею зубами, и боль становилась все острее – я чувствовал, что она прокусит мне горло, я захлебнусь собственной кровью, я не мог этого больше терпеть – физическая мука стерла удовольствие…
Закричал, оттолкнул ее – руки повисли в пустоте. Потрогал осторожно горло – золотой крестик сбился на цепочке и уткнулся в ямку на шее, давил резко и больно, как острый гвоздь…
Поправил крест на цепи, поцеловал его, разжал пальцы, и упал он мне на грудь – тяжелый, теплый, – как ангельская слеза сострадания.
Повернулся на бок – пусто рядом со мной. У Марины своя спальня. Мы не спим вместе. Довольно давно.
Я не могу. Не получается больше. Дикость какая-то! Все врачи мира не могут уговорить или заставить моего маленького дружка. Он, послушник подсознания, молча и неумолимо воюет с моей волей, с моими желаниями, с моей личностью.
Врачи долдонят одно и то же: вы совершенно здоровы, вы молоды, у вас нет никаких органических поражений или отклонений. Просто у вас стойкое хроническое нервное перенапряжение, вы живете в режиме непрерывного дистресса, вам нужен покой, разрядка и отвлечение.
Мое гнусное подсознание сильнее всех их знаний, исследований, препаратов и процедур.
Когда я смотрю в бегающие глаза сексопатолога, когда слушаю утешающую буркотящую скороговорку психотерапевта – весь этот жалобный, нищенский, побирушечий бред профессорской обслуги, я понимаю с горечью и гордостью: не руководители, не управители, не помощники они моему маленькому дружку, живущему в монашеской черной аскезе и отшельничестве. Мое могучее, отвратительное подсознание оказалось сильнее меня самого и наказало меня по-страшному.
Импотенция? Ха-ха! Бессилие? Лом вам в горло! А может быть, это не наказание? В том смысле, что не задумывалось как возмездие, а просто – баланс сил? Может быть, изначально задумано, что римский папа не должен трахать баб?
Но Кароль Войтыла, когда стал Иоанном Павлом, был уже старым хреном. А мне тридцать шесть лет. И я не могу уйти в отпуск, чтобы отдохнуть, – никогда, ни на один день. Я разряжаюсь, только переключив свое внимание с одной кошмарной проблемы на другую – еще более невыносимую. Я отвлекаюсь от своих забот только затем, чтобы положить в свой карман чужие.
Я – Мидас, строящий золотой свод мира. Большая тягота, большая власть, большой кайф. Интересно, обрадовались бы или огорчились легионы людей, зависящих от меня, если бы им довелось узнать, что не я им хозяин и распорядитель их судеб, а мой маленький дружок, одинокий и бессильный, отдавший меня самого во власть могучей черной тьмы бушующих во мне ураганных стрессов и ужасных страстей.
Наверное, обрадовались: они – рабы. И я – раб. Мидас – царь, который знает о своем рабстве. Никто не догадывается об этом. Врачи не в счет, они не игроки, а интерьер, часть декорации жизни, неживая природа. Они верят, что это болезнь чрезмерного душевного утомления.
А я знаю, что это не состояние надпочечников, простаты, яичек и всей остальной мочеполовой требухи – это свойство моей души, которую ученые дураки называют подсознанием.
Бедные живут в счастливом заблуждении, что за деньги покупается власть.
Деньги платят за небольшую власть. За настоящую власть принимается только одна плата – душой.
Об этом знаю я. И Марина, без которой я не могу жить, которую я люблю мучительной острой ненавистью, ибо по кошмарной прихоти судьбы она и есть неумолимо-жестокий мытарь, взимающий с меня безмерно тяжелую плату душой за ту власть, что я имею, за ту жизнь, которую я веду.
Я могу в этом мире все – не могу только заставить ее кричать от наслаждения. Со мной.
Все! Все! Все!
Я проснулся. Конец пытке ночного отдыха – обморока, липкого кошмара, бессилия перед провокациями моей души, заполняющей темноту и безволие страшными снами об ушедшем навсегда счастье, которое, может быть, и было смыслом радостного животного существования меня – молодого, бедного, алчного, полного никогда не сбывающимися мечтами.
Все! Все!
Встаю. День начался. Сейчас – в гимнастический зал, и гон по электрическому бесконечному тротуару беговой дорожки, силовые машины, неподъемные блоки – до горячего истового пота, до сильной, глубокой задышки, пока не придет Серега, невыспавшийся, помятый, и недовольно спросит:
– Ну что ты так рвешься наверх? Что ты так напрягаешься?
– Времени нет, – тяжело отдуваясь, отвечу я.
– О чем ты говоришь? Ты же молодой еще!
– Уф-ф! – брошу я гири. – В нашей сонной отчизне молодость – всегда или льгота для лентяев, или стыдный порок для достигателей…
– Ты думаешь, в мире по-другому?
– Мир, Серега, это не только пространство. Это – время… Царь Александр Филиппыч Македонский к тридцати трем годам завоевал полмира и умер. Иисус Христос в этом возрасте создал Новый Завет, был распят и вознесся. А наш былинный герой Илья Муромец только слез с печи и пошел опохмеляться. А мне уже больше годков натикало…
– Ты хоть не опохмеляешься…
– Бог миловал… Все, пошли мыться.
…Мы медленно плыли в голубой прохладной воде бассейна, и я говорю Сергею, а доказываю себе:
– Все, что человек способен сделать, он совершает в молодости. У нас с тобой сейчас – полдень жизни. Еще чуть-чуть, и незаметно начнет подползать старость, противная, больная, стыдно-беспомощная… Серега, с годами человек становится хуже – мозги киснут и душа съеживается.
Серега бросился на меня, пытаясь слегка притопить, и орал дурашливо:
– Хуже старости, Хитрый Пес, человека разрушают власть и деньги. Он становится злым и агрессивно-подозрительным…
Я вынырнул, со смехом отмахнулся:
– У тебя нормальная идеология бедного человека…
– Может быть! – смеется Серега. – Нам не понять друг друга. Ты-то миллиардер, а я уже давным-давно пока еще нет…
КОТ БОЙКО: УЕВИЩЕ
– Але, подруга! – Я поцеловал Лору в шею. – Ты работу не проспишь?
– Что я, с ума сошла, сегодня на работу переть? – Лора вылезла из-под простыни, взяла с тумбочки свои фасонистые очки. – А сколько времени?
– Семь-двадцать. А что скажешь на работе?
– Ничего. Шефу своему позвоню, отговорюсь. Он у меня с понятием. Если бы не приставал с глупостями – цены бы ему не было…
– Секс-обслуживание в контракт не входит?
– Ты бы взглянул на шефа – по нему курс эндокринологии учить можно. – Лора встала с тахты и сообщила, как вердикт вынесла: – Сейчас из тебя человека буду делать.
– Уточните, мадам? – насторожился я.
– Отпарю тебя, как старые брюки, отглажу, отмою, подстригу – станешь лучше нового! – Лора смотрела на меня с улыбкой, но говорила твердо: – Такой причесон забацаем – полный улет! Как у Зверева, только забесплатно…
– Сказка! – восхитился я. – Волшебный сон!
– У тебя денег, ловчила, наверняка нет? – спросила утвердительным тоном Лора.
Я показал на смятую пачку на столе.
– Чепуха! – махнула рукой Лора и с энтузиазмом сообщила: – А у меня есть тысяча шестьсот «у.е.».
– Это что такое? – удивился я.
– Баксы официально называют «условные единицы»…
– По-моему, доллар – это не условная, а очень конкретная единица, – возразил я. – Совсем с ума посходили – полное уевище…
– Ну, не важно! Условные, безусловные! Когда их нет, они, наверное, условные. А так – важно, что есть! Значит, приводим тебя в божеский вид, я звоню на службу – быстро отбиваюсь, мы завтракаем… – Лора замолкла и мечтательно закрыла глаза.
– И что дальше? – опасливо спросил я.
– Едем в город и одеваем тебя с ног до головы! Чего ты смеешься, обормот? Не веришь, что за кило-шестьсот можно фирмовый прикид собрать? Я такие места знаю! Не веришь? Давай собирайся, берем деньги и едем…
Я обнял ее, прижал голову Лоры к своему плечу, чтобы она не видела моего лица. У меня было сейчас наверняка плохое, слабое лицо, морда утешаемого слабака, сентиментальная патока заливала мой разбойный фэйс. Мой приятель Фотокакис наверняка сказал бы, что у меня влажно заблестели глаза. Просто срам!