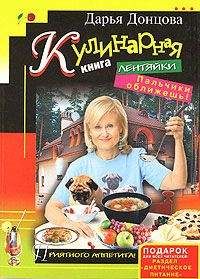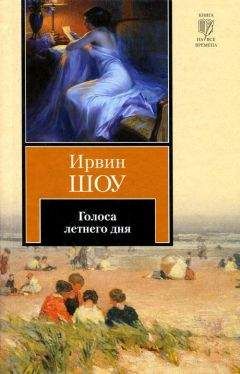Дик Фрэнсис - Смерть на ипподроме (Кураж)
Я встал и выпил свое виски.
— Эту скачку я выиграю. Чего бы это ни стоило, я выиграю ее.
На следующий день мы поехали с ним на ипподром и всю дорогу молчали. А на месте выяснилось, что из трех предстоявших мне скачек две — уже не мои. Меня просто выпихнули вон.
— Владельцы лошадей, — бесцеремонно объяснил тренер, — считают: у них нет шансов на победу, если, как предполагалось, скакать будете вы. Очень жаль, но они не хотят рисковать.
Я был на трибунах и видел, что одна из двух лошадей победила, другая пришла третьей. Я старался не обращать внимания на косые взгляды жокеев, тренеров и журналистов, стоявших неподалеку. Хотите посмотреть, как я реагирую, — ну, это ваше личное дело. Так же, как моим сугубо личным делом было желание скрыть от них, какой непереносимой горечью отозвались во мне эти результаты.
В четвертой скачке я шел на лошади Джеймса и был полон решимости победить. Лошадь была вполне способна на это, и я знал ее, как умелого прыгуна и волевого борца на финише...
Мы пришли последними, Мне удалось заставить ее держаться вместе с остальной группой, В конце она чуть не шагом прошла мимо финишного столба, опустив голову от усталости. Я и сам не мог поднять головы от обиды и унижения. Чувствовал себя больным и с трудом вернулся, чтобы держать ответ. Лучше бы сесть в «мини-купер» и врезаться на полной скорости в здоровенное дерево.
Веснушчатый парнишка-конюх, ухаживавший за лошадью, даже не взглянул в мою сторону, когда взял поводья в паддоке. Обычно он встречал меня сияющей улыбкой. Я слез с лошади, Владелец и Джеймс стояли с ничего не выражающими лицами. Никто не сказал ни слова. Да и нечего было говорить. В конце концов владелец лошади пожал плечами, круто повернулся и зашагал прочь. Я снял седло, а конюх увел лошадь.
Джеймс сказал:
— Так не может продолжаться, Роб. Я это знал.
— Мне жаль. Мне очень жаль. Но придется найти кого-нибудь, кто завтра скакал бы на моих лошадях.
Я кивнул.
Он внимательно посмотрел на меня, и впервые в его взгляде кроме удивления и сомнения появился оттенок жалости. Это было невыносимо.
— Сегодня я не буду возвращаться с вами, Мне придется ехать в Кенсингтон. — Я постарался, чтобы это прозвучало как можно спокойнее.
— Хорошо, — явно обрадовался он. — Мне, право, очень жаль, Роб.
— Я это знаю.
Отнеся седло в весовую, я остро ощущал провожающие меня взгляды. В раздевалке все замолчали смущенно. Я положил седло на скамью и начал раздеваться. На некоторых лицах было написано любопытство, на других — враждебность, кто-то смотрел с сочувствием и лишь один или двое с откровенной радостью. Презрения не было — оно остается тем, кто сам не участвует в скачках, кто не знает, каким грозным кажется жокею большой забор. А здесь каждый слишком хорошо сознавал: все это могло бы быть и с ним.
Разговор возобновился, но ко мне не обращались. Так же, как и я, они не знали, что говорить.
Я чувствовал себя не менее храбрым, чем всю жизнь. Ясно, что невозможно быть напуганным, хотя бы подсознательно, и считать себя столь же готовым к любому риску. Но оставался потрясающий факт: ни одна из двадцати восьми лошадей, на которых я скакал после того, как упал и ударился, не показала приличного результата. Ни одна! Их тренировали разные тренеры, они принадлежали различным владельцам. И единственное, что было между нами общего, — это я. Двадцать восемь — слишком много, чтобы считать это случайным совпадением. Тем более, что те две, от которых меня отставили, прошли хорошо.
Беспорядочные мысли все крутились и крутились, и ощущение такое, будто небо валится. Я надел свой уличный костюм, причесался и даже удивился, что выгляжу как обычно. Вышел и постоял на крыльце. Из раздевалки доносилась обычная жизнерадостная болтовня, затихшая при мне и снова вспыхнувшая, как только я вышел. Снаружи тоже никто не стремился заговорить со мной. Никто, если не считать тощего типа с лицом хорька, который пописывал во второстепенной спортивной газетке. Он стоял с Джоном Баллертоном, но, увидев меня, тут же подскочил.
— О, Финн, — глядел он на меня с хитроватой, злобной улыбочкой, вынимая блокнот и карандаш, — не дадите ли мне список лошадей, на которых вы будете скакать завтра? И на той неделе?
На грубоватом лице Баллертона сияла самодовольная, торжествующая ухмылка. Я с трудом справился с собой.
— Спросите лучше у мистера Эксминстера. Хорек был разочарован. У меня еще хватило здравого смысла, чтобы не дать ему по морде.
Я пошел прочь, клокоча от ярости, Но проклятый день еще не кончился. Корин, как нарочно попавшийся на пути, остановил меня:
— Вы видели это? — В руках у него был номер газетки, в которой сотрудничал тот хорькоподобный тип.
— Нет. И видеть не хочу. Корин улыбнулся злорадно:
— По-моему, вы должны подать в суд на них. Все так считают. Нельзя же это игнорировать, иначе все подумают...
— Пусть все думают, что им хочется, черт побери, — отрезал я, пытаясь уйти.
— Все же прочтите, — настаивал Корин, суя газетку мне в нос.
Не заметить заголовка было невозможно. Жирным шрифтом напечатано: «Потерян кураж». И я стал читать.
"Кураж, храбрость — зависят от человека. Один храбр, потому что усилием воли побеждает страх, другой — из-за отсутствия воображения. Если заниматься стипльчезом — не имеет значения, к какому типу относится человек, главное — обладать куражом. Может ли кто-нибудь понять, почему один храбр, а другой нет? Или почему один и тот же человек может быть в какой-то период храбрым, а в какой-то трусливым? Не связано ли это с гормонами? Да и удар по голове может, вероятно, повредить тот орган, который вырабатывает кураж. Кто знает?
Но когда жокей стипльчеза теряет кураж — это жалкое зрелище, как мог убедиться каждый зритель, недавно побывавший на скачках. И хотя мы можем сочувствовать этому жокею, поскольку он не в силах справиться со своим состоянием, нельзя не спросить в то же время: правильно ли он поступает, продолжая участвовать в скачках?
За свои деньги публика хочет видеть честные состязания. А если жокей трусит, боится упасть он получает свой гонорар обманным путем. Но конечно, это лишь вопрос времени. Тренеры и владельцы лошадей непременно откажутся от услуг такого обманщика. И заставят его уйти в отставку, защитив таким образом публику, играющую на скачках, от напрасной траты денег.
И правильно сделают!"
— Я не могу подать на них в суд, — сказал я, возвращая Корину газету. — Они не назвали моего имени.
Это его не удивило. Да он знал все м раньше: хотел только понаслаждаться зрелищем.
— Что я такого вам сделал, Корин?
Он был несколько ошарашен и промямлил:
— Э-э... ничего...
— Тогда мне жаль вас, — холодно заметил я, — Мне жаль вашу злобную, низкую, трусливую душонку...
— Трусливую? — покраснев, воскликнул он, уязвленный. — Вы кто такой, чтобы других обвинить в трусости? Просто смех один, честное слово! Ну погодите, я им все расскажу. Ну-ну...
Но я уже получил больше, чем достаточно. И в Кенсингтон отправился в таком ужасном отчаянии, какого, надеюсь, мне не придется больше пережить.
В квартире никого не было, и на сей раз она была чисто убрана. Семейство, как я понял, в отъезде. Что подтвердила и кухня: ни крошки хлеба, ни капли молока, ни какой-либо еды в холодильнике: корзинка из-под фруктов пуста.
Вернувшись в безмолвную гостиную, я вытащил из буфета почти полную бутылку виски. Улегся на диван и сделал два здоровенных глотка. Неразбавленный алкоголь обжег рот и пустой желудок. Я заткнул бутылку и поставил на пол рядом с собой.
«Какой смысл напиваться, — подумал я, — утром мне будет еще хуже. Ну, допустим, я смогу пить несколько дней, но и это не поможет. Все кончено. Все погибло и потеряно», Я долго рассматривал свои руки. Руки, их особая чуткость к лошадям, кормили меня всю мою взрослую жизнь. Руки выглядели, как обычно. «Они те же», — в отчаянии думал я. Нервы и мускулы, сила и чувствительность — ничто не изменилось. Но воспоминание о двадцати восьми лошадях, на которых я скакал в последнее время, опровергло это. Неуклюжие, нескладные, невосприимчивые — вот они какие, мои руки!
Я не владел никаким другим мастерством, кроме умения скакать на лошадях — и не желал ничего иного. Сидя на лошади, я ощущал себя не только цельнее, но и крупнее. Еще четыре ноги кроме моих, и еще одна голова. И куда больше силы, больше скорости, больше храбрости... От последнего слова я вздрогнул. В седле я чувствовал себя, как рыба в море. Скаковое седло! Мороз пробежал по коже. Не гожусь я для скакового седла. Недостаточно скакать так же хорошо, как другие. Нужно еще также иметь талант и выдержку.
А я не гожусь и никогда не буду годиться. Я не могу снова овладеть тем, что уже было у меня в руках. Я не использовал тот удачный шанс, который был мне дан. А этот ужас, это унизительное, постепенное падение! А ведь я уже почти достиг успеха!