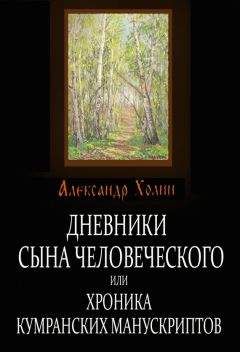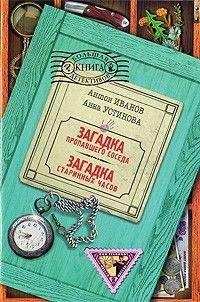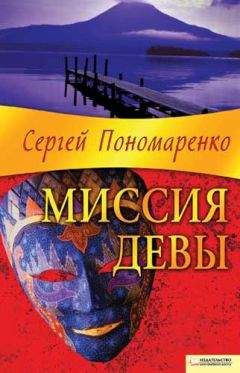Александр Холин - Лик Архистратига
— А-а-а-а! Глядите, гадость какая! — заверещала довольно мясистая модно раздетая корова. — Кто сюда это приволок?!
Накуренный монолит атмосферы «Камня преткновений» качнулся в одну сторону, в другую… Ароматы «Герцеговины флор», «Прибоя», «Казбека» и ещё десятка папиросных вариаций слились в одну общую атмосферу. Мирный ход мирной истории был нарушен. К столику стали собираться маститые и не очень, но каждый на глубину своей масти считал возможным резюмировать происшествие:
— Да уж, кто-то нам действительно свинью подложил.
— Этого только не хватало!
— Хм… какая большая. И талантливого письма, надо сказать. Жаль, художник свой талант использовал не по назначению.
— Какое назначение? О чём вы говорите, товарищ! Выбросить эту мазню на задний двор — и дело с концом. Там истопник определит её куда надо.
— Товарищи! Зачем истопник? Давайте лучше сами истопниками поработаем. Давненько мы наш сорокаведёрный самовар не растапливали. Не пора ли почаёвничать да за жисть покалякать. А из доски-то такая лучинушка для самовара выйдет — сказка!
Толпа писарчуков оживлённо загудела, как потревоженный осиный улей.
— Виссарион! — перекричал общий гуд тот же голос, обращаясь к кому-то из толпы, теряющемуся в задних рядах, — А не порубишь ли ты, товарищ, эту доску на чурочки для самовара?
— Легко, — пробасил Виссарион и, раздвигая могучим животом маститые тушки писателей, протиснулся к столу. — Легко! Нонешний чаёк посвящён будет имажинистскому сословию. Идёт?!
— Даже едет! — пискнула какая-то авантажная пионэрка. — Ой! Ужасно хочу чаю! Ужасно!
Кто-то уже, воспользовавшись всеобщим отвлечением от собственных дел, пытался привлечь внимание общества к себе-любимому, кто-то просто рассуждал в пространство о неразделимости миров и сословий, а те, что пошустрее да поухватистей, тащили к камину огромный клубный самовар, труба которого крепилась к дымоходу камина.
Экстравагантные пиитессы, подоткнув по случаю юбочки выше положенного, расставляли на сдвинутых в центре столах разнокалиберную посуду под надвигающийся чаёк, раскладывали по тарелкам тут же сочинённые бутерброды. А Виссарион и иже с ним уже суетились вокруг разгорающегося самовара, подкидывая в него чурочки ещё недавно бывшие одной целой иконой.
Самовар разгорелся охотно, благо, дерево оказалось на редкость сухим, намоленным, так сказать. Только запах от сгоревших дровишек, превратившихся в уголья, расползался по ноздрям разнокалиберных писарчуков не очень-то аппетитный. Из разных мест послышались даже временные «апчихи» и скудный сдавленный кашель. Скоро свежеистопленный самовар с огромным заварным чайником наверху водрузили в центре импровизированного банкетного стола. Всех присутствующих охватила необъяснимая волна экзальтации и шуточки типа: «Чай, так чай!», «Пить, так пить!» — сыпались отовсюду, сопровождаемые нервическим подхихикиванием пиитесс, продолжающимися «апчихами» и возмущением кастратного фальцета по поводу запаха.
— Иконный чай, — басил Виссарион. — Иконный чай! Налетай! Выпивай! Господу Богу помолимся! Вот тебе и весь аллилуй!
— А что, братцы, чаёк отменный, даром что иконный! — решил оказать чаю должное тот самый кастратный фальцет.
— Да-да, я бы сказал даже со специфическим ароматом, — подхватил Виссарион.
— Друзья! А у меня тут экспромт на почившего в бозе Николая-угодника…
И вдруг сквозь весь этот восторженный шум-гам-смех, словно смертельная стрела викинга, пролетел визг:
— Пожа-а-а-а-а-а-ар!..
За устоявшимся монолитом винегретного табачного дыма никто сразу и не приметил дымок, потянувшийся от невесть как закурившихся останков иконы, брошенных возле обитой китайским шёлком деревянной перегородки, которая также вспыхнула с готовностью сухого пороха и клочки огня, точно солнечные блики, перепрыгивали со стены на всё деревянное, что имелось в «Камне преткновения».
Таким же бурным огнём вспыхнувшая паника — с визгом, криком, топотом — бросила волну человеческих тел к входной двери, оказавшейся к тому же запертой. Никто почему-то даже не пытался сбить или потушить пламя, которое, как бы почувствовав свою власть над людьми, загудело, затрещало, заискрилось, отвоёвывая всё новые и новые территории.
Обезумевшая толпа двуногих рыскала посреди огня, пытаясь прорваться к окнам, забранным ажурными решётками, то снова и снова к никак не открывающейся входной двери. Наконец, несколько человек, ещё не совсем одуревших от воплей, дыма и пламени, выскочили в подсобку, из которой по коридору можно было выбраться на задний двор. Но краска на двери в коридор подозрительно пузырилась, а из щелей валил всё тот же сиротский торжествующий дым всеобъемлющего пожарища. Дверь вспыхнула, яркие языки сине-оранжевого огня заплясали во всей своей необузданной красоте, заблаговременно предвкушая близкую человеческую поживу.
У чугунной ограды «Камня преткновений» стоял давешний кожаный в широкополой шляпе и спокойно наблюдал бушевавший внутри пожар. А по палисаднику метался испуганный беспомощный дворник, размахивая руками, шлёпая толстыми беззвучными губами, как рыбец, выброшенный на лёд.
— Не суетись, папаша, — негромко, но внятно произнёс незнакомец. — На-ко лучше выпей чайку на помин души… — и к ногам оторопевшего дворника упало несколько весело звякнувших полтинников чистого серебра.
— Ну и что? — Щёголев сдвинул очки на кончик носа и поверх посмотрел на приятеля. — Думаете, разражусь хвалебными или не в пример ругательными откликами и пыхтением надутых щёк? Вот в этом — весь вы, всё равно как на ладони, милейший! Тема, конечно, затронута интереснейшая, только никто этого читать не будет, как не читают ваше прекраснейшее «Хождение по мукам». Ну, был пожар — исторический артефакт! Ну, подожгли имажинисты Центральный Дом Литераторов. Что с того? Если бы, допустим, среди них Есенин погорел, тогда ещё куда ни шло. Но о нём уже в «Англетере» большевики позаботились. Неужели вы свято верите, что кто-нибудь обратит внимание на всю вашу похабную мистику? Может быть, она действительно переплетена с историей, но массокультуре до этого нет дела.
— Что же, прикажете под дудку массокультуры приплясывать гопака вприсядку и с выходом из-за русской печки? — хмыкнул Алексей Николаевич. — Не слишком ли дорогая плата?
— Эх, дорогой мой, — глаза Щёголева блеснули менторским оттенком. — Через массокультуру общество навязывает любой и каждой личности стандарт жизненного успеха. То есть, ты должен делать то-то и то-то в таких-то рамках! Само нарушение общих рамок — трагедия, граничащая с вычёркиванием из общества! Подумайте над этим и вспомните того же Есенина: он отказался принять милость стать главным редактором правительственного литературного журнала и вскоре поплатился жизнью. Лейба Бронштейн не простил ему явного пренебрежения. А вот ежели вы за нынешнюю деревню возьмётесь, это всех точно заинтересует. Особенно товарища Сталина. Ведь глубинка стоит на краю пропасти! И это не простые слова. Это жизнь наша сермяжная, потому как русской деревне умирать никак нельзя! А какая же Россия без деревни, без сельскохозяйственного прокормления народов?! Вспомните хотя бы Первую мировую. Ведь тогда Россия экспортировала хлеб! Где вы такое ещё найдёте, чтобы страна во время войны торговала своими продуктами?! Нигде и никогда такого не было и не будет. Недаром чужие Петра Аркадьевича Столыпина застрелили. Потому как он налаживал русскую деревню! Только никому из забугорных хозяев не нужна могучая страна, как не нужна и ненавистна она была в своё время молодому царевичу Петрушеньке Алексеевичу. Вот тогда впервые и начал по Руси пришлый народец рыскать. А сейчас уже во многих деревнях чужие пришлые и нездешние давно порушили храмы. Пытались вместо веры читать лекции гегелианского Маркса или же марксистского Гегеля, вместо крестин — звездины устраивать, где навешивали детям имена не просто Клара и Роза, а, скажем, ВИЛЕН, ГОЭЛРО, НИНЕЛЬ [21] и так далее. Но всё это тут же рухнуло, особенно в глубинке. Чужим пришлось подписываться под просьбами хлеборобов о реабилитации и возвращении в какое-нибудь село или деревню пусть не трезвенького, но попа. Но своего. Кстати, эврика! Как вы относитесь к личности Петра Первого? Оказывается, он недаром мне только что вспомнился. Ежели не слабо окажется, и возьмётесь за роман о нём, как о мощной исторической фигуре, то ваше счастье далеко не за горами, помяните моё слово. Император Петрушенька — это такая фигура! Мало не покажется. Тут есть возможность историю переписать со своей точки зрения, о есть с точки зрения руководящих государством, а это дорогого стоит!
— Знаете, Щёголев, вы мне тоже иногда чужого напоминаете, — нахмурился Алексей Николаевич. — Причём, готового заплатить аванс звонкими шекелями, драхмами или же лептами. К чему мне выбирать, где лучше и где удобней? Ведь жизнь, как правило, не на этом строится. А писать про царя, ненавидевшего свою страну, это, воистину, напрасный труд.