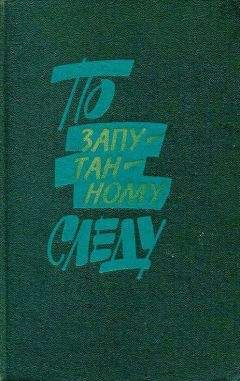Анатолий Безуглов - Конец Хитрова рынка
Даже теперь, после его смерти — он умер в 1946 году, — мне трудно охарактеризовать его, хотя я знаю о нем все или почти все. Но что такое «все»? Я беседовал с ним, изучил его биографию, знаю с кем он общался, на ком женился, круг его интересов, привычки… Но ведь это только оболочка, скрывавшая какой-то душевный костяк, стержень. А до него я так и не добрался. Но порой мне кажется, что никакого стержня у Зайкова не было, и сам он тоже не мог предугадать своих мыслей и поступков, которые были для него такой же неожиданностью, как и для окружающих.
Что же касается вечера, о котором я пишу, то из знакомства с королем соловецких парикмахеров я вынес только одно: прежде чем допрашивать Зайкова в качестве свидетеля, желательно получить дополнительные данные, потому что иначе ни за что ручаться нельзя. Зайков не был тем непоколебимым свидетелем, о котором мечтает каждый следователь, ведущий запутанное дело. Он мог оказать неоценимую помощь, но мог и сознательно завести дело в тупик. Степень вероятности того и другого была почти одинакова, а мне не хотелось рисковать у самого финиша. Очень не хотелось!
Еще в первый день своего приезда я попросил начальника одного из отделов лагеря подготовить мне списки всех освобожденных из заключения в период с июля по октябрь прошлого года, а также перечень поселенцев, выезжавших на континент. Одновременно один из оперативников отдела занялся по моей просьбе списком тех, кто в разные годы входил в «Общество самоисправляющихся» или имел какое-либо отношение к лагерной художественной самодеятельности.
Я ни минуты не сомневался, что в этих списках обязательно окажется тот рыжеволосый незнакомец, приметы которого описали Грибанова и работник скупки.
Это был беспроигрышный путь, исключавший случайности. Отыскав рыжеволосого и допросив его, я бы уже не зависел от Зайкова, который автоматически превращался из главного свидетеля во второстепенного. Все преимущества этого пути не могли искупить один, но весьма существенный его недостаток…
В полученных мною списках были сотни и сотни фамилий. И даже если бы мне в помощь выделили двух или трех сотрудников отдела, проверка заняла бы не меньше двадцати, а то и тридцати дней — срок неимоверно большой. Это вынуждало меня идти на очевидный риск. Что поделаешь, выбора у меня не было. Сидеть на Соловках месяц я не мог.
И я предложил Зайкову после трех проигранных мною партий четвертую, самую ответственную и самую рискованную, которую я собирался во что бы то ни стало выиграть. Разыгрывал я ее вопреки всем правилам теории и практики. Именно в этом и заключалось мое преимущество.
XXV
В забранное редкой железной решеткой окно смотрела коренастая Архангельская башня Соловецкого кремля. Чуть дальше — такая же массивная Поваренная, наполовину прикрывающая собой Квасоваренную, где теперь размещалась каптерка, а в двадцатые годы — образцовая «вошебойня», державшая устойчивое первенство среди всех сан-объектов лагеря. Ею тогда заведовал бывший офицер врангелевской контрразведки, поборник чистоты, тонкий ценитель плакатов санпросвета и постоянный поклонник Сони Мармелад… Между башнями — глухая стена из серых валунов. Над ней — крыши внутренних построек и конусы Спас-Преображенского и Успенского соборов. Еще выше, у верхнего края окна, белесое, в тон снега, небо. По льду Святого озера тянулись волокуши с бревнами — топливо для паровозов узкоколейки.
В моем временном кабинете было тепло и тихо. Толстые бревенчатые стены и двойные двери с тамбуром не пропускали ни звука.
Зайков выжидательно посмотрел на меня. В его глазах не было настороженности — одно веселое любопытство. Точно с таким же любопытством он глядел на меня во время игры, сделав какой-нибудь заковыристый ход. Но теперь между нами шахматной доски не было.
Захлопал крышкой подогревшийся на электроплитке чайник. Я выдернул штепсель, крышка поднялась в последний раз и нехотя опустилась. Через отверстие в крышке пробивалась тонкая струйка пара, по запотевшему никелю покатились капельки.
— Хотите чаю, Иван Николаевич?
— Не откажусь…
Я заварил чай, разлил по стаканам, достал из тумбочки сахарницу и привезенную из Москвы пачку печенья «Карина».
— Кажется, названо в честь девочки, родившейся в Карском море? — Зайков рассматривал обертку.
— Да, в честь самой юной из челюскинцев — Карины.
— Печенье хорошее, — похвалил он. — К нам сюда такое не завозят. — И, посмотрев на меня, сказал: — Трудно поверить, что я только утром имел честь брить вас. Быстро зарастаете.
— Что поделаешь.
— Вам бы следовало бриться дважды в день, как это делают англичане. Жаль, что сие у нас не принято. У русаков вообще нет уважения к бритве. Исключение разве только Петр Первый: прежде чем повернуть лик матушки-России к западу, он благоразумно обрезал ей бороду, дабы не испугать европейцев звероподобным образом восточной соседки. Флот и бритва — его заслуга. Думается, что для него символом прогресса был хорошо выбритый русак
с голландской трубкой в зубах на палубе судна, построенного сынами туманного Альбиона.
— Вам еще налить чаю?
— Пожалуйста, если вас не затруднит. Вы, конечно, москвич? Я имею в виду — уроженец Москвы?
— Да.
— Это легко определить по способу приготовления чая. Вообще заварка чая — искусство сугубо русское, так же как иконопись. Англичанам оно не дается, им мешает рационализм, а чтобы хорошо приготовить чай, надо быть поэтом. Я иногда жалею, что мне не привелось пить чай у Пушкина.
— Но у англичан были Байрон и Мильтон…
— Запамятовал! — Зайков развел руками. — Видно, эти двое тоже умели заваривать чай!
Зайков говорил легко, весело, со свойственной ему непринужденностью, а в глазах его было все то же любопытство: он хотел знать, зачем его сюда пригласили. Естественное желание. Вполне естественное…
— Иван Николаевич, почему вы избрали профессию парикмахера?
— Я бы сказал: куафера. Парикмахер — почти синоним цирюльника.
— Ведь вам предлагали работу, связанную с геодезией.
— Некогда на красных знаменах было написано, что каждый труд почетен.
— Но там же было написано: от каждого по способностям. Вы образованный человек, знаете языки, разбираетесь в экономике, математике, картографии…
— Ошибаетесь, Александр Семенович, ошибаетесь. Зайков, о котором вы говорите, давно умер, да будет ему земля пухом! — он шутливо перекрестился. — Умер тот Зайков, почил в бозе. А я всего-навсего однофамилец. Зайков, как известно, распространенная фамилия, Зайковых в стране сотни тысяч, а Ивановых — миллионы, и Иванов Николаевичей миллионы. Мой однофамилец изучал различные науки, был сведущ в языках, проливал свою голубую кровь за белую идею, почитал батюшку-царя и трехцветное знамя. Разве у меня есть с ним что-либо общее, кроме фамилии? Я только куафер, Александр Семенович, труженик брадобрейного цеха, мастер усов и прически…
— Это сейчас.
— Не верьте анкетам, Александр Семенович. Я всегда был куафером. — Он отломил кусочек печенья, положил его в рот, огляделся, словно только сейчас обратил внимание на комнату, в которой мы сидим, на зарешеченное окно и глядящую в него монастырскую башню. — Некогда я открыл для себя великую истину. Это открытие я сделал в отрочестве. Правда, не самостоятельно. Мне помогла Диана…
— Я не настолько хорошо знаю вашу биографию.
— Простите, вы совершенно правы, тем более что в анкетах я ничего не писал о Диане. Диана — это сука, гончая отца. Мой отец, человек старой закалки, любил мифологию, поэтому у нас были Дианы, Афродиты, Гераклы, Посейдоны… И это, заметьте, в Рязанской губернии. А история, в которой роль героини принадлежала Диане, назидательна, будто специально для школьной хрестоматии. Но мне не хочется отнимать у вас время.
— Я с удовольствием послушаю.
— Из вежливости?
— Не только… Из профессионального любопытства тоже.
— А вы откровенны, — сказал Зайков. — Ну что же… В конце концов, это очень маленькая история. Кроме того, может быть, она вам действительно пригодится, кто знает… Мой отец, вернее отец усопшего однофамильца, как вам, конечно, известно, был помещиком. — Он усмехнулся. — И помимо того, как вам, возможно, и неизвестно, страстным охотником. Впрочем, землевладельцы тогда почти все были охотниками, недаром говорили, что без борзого кобеля — не помещик. Псарня была гордостью и утехой отца. Он уделял ей много внимания, намного больше, чем моему однофамильцу, единственному сыну и наследнику. Странного в этом ничего не было: в отличие от детей собаки привязчивы, послушны и преданны. Лучшие щенки жили не на псарне, а в нашем доме, в комнатах. Диана считалась лучшей. Она была сообразительным кутенком с незаурядными цирковыми способностями. Я довольно быстро выучил ее разным кунштюкам. А когда она подросла, отец взял ее на охоту. И тут, увы, оказалось, что Диана не унаследовала от своих чистопородных родителей ни порыска, коим те славились, ни их страсти к этому благородному занятию. Отец лично занялся ее натаской, но безуспешно. Он промучился с ней месяц и, убедившись в бесплодности всех своих попыток, приказал ее повесить. На осине. Это было, разумеется, не гуманно, но соответствовало обычаям. Осина считалась проклятым богом деревом. Существовало поверье, что на ней удавился Иуда, и с тех пор лист на осине дрожит, а под корой цвета пресловутых сребреников застыла иудина кровь. Склонные же к суевериям охотники считали, что не повесить на осине негодную борзую или гончую — значит искушать судьбу и навсегда лишиться удачи в охоте. В отсталой аграрно-феодальной стране, каковой тогда являлась Россия, предрассудками были заражены и эксплуататоры и эксплуатируемые, а антирелигиозная пропаганда преследовалась законом. И Диану повесили на осине. Вбили в осину крюк и повесили… Однако эта печальная дореволюционная история имеет счастливый конец. Некий благородный егерь, человек из народа, кстати говоря мой тезка, перерезал веревку и таким образом спас несчастную собаку от смерти. Он взял ее к себе. Отец, конечно, узнал об этом, но предпочел закрыть на случившееся глаза…