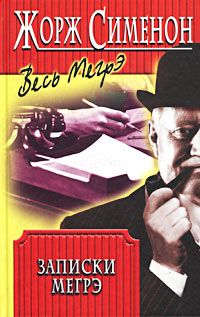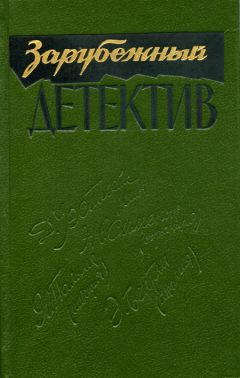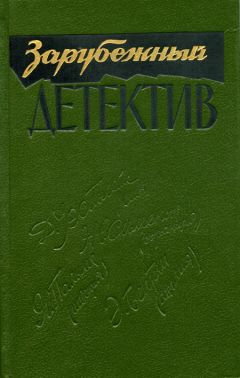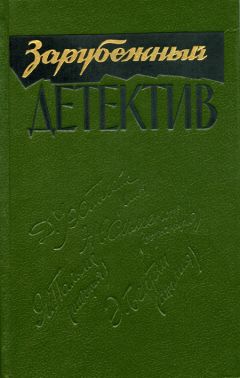Жорж Сименон - Я вспоминаю
Теперь каждый день после обеда мы с мамой ходим на выставку. В Льеже открылась Всемирная выставка, она раскинулась по обоим берегам Мааса в квартале Бовери.
Построили новый мост, сверкающий позолотой.
От нас туда путь неблизкий: моим не слишком длинным ногам - полчаса пешком. Туда идет желто-красный трамвай, но нам он не по карману: проезд стоит десять сантимов.
Все дорого, видишь ли! Один Дезире этого не замечает и всем доволен.
Анриетта сшила из черного сукна сумочку, фасоном напоминающую мешочек и с металлическим замочком. В нее кладется мой полдник. У Анриетты есть абонемент- квадратик картона, перечеркнутый по диагонали широкой красной чертой, с ее фотографией на переливающемся фоне.
Анриетта ждет второго ребенка, но я об этом не подозреваю. Больше всего меня восхищает каскад возле нового раззолоченного моста и барки, которые плывут вниз по реке в изумительном облаке брызг.
Кое-что забылось, но я до сих пор помню некоторые запахи, в том числе запах шоколада - его изготовляли в одном из павильонов.
Негр, одетый как в "Тысяче и одной ночи", раздавал кусочки этого шоколада прохожим.
Увы! Меня заставили выбросить шоколад, вложенный негром мне в руку.
- Это грязь! - объявила мама.
По аллеям расхаживали толпы народу, в нагретом солнцем воздухе резко и в то же время пресно пахнет пылью.
Чуть подальше жарят кофе. Еще дальше повар в белом колпаке, болтающий с парижским выговором, делает и продает вафельные трубочки.
Я знаю их запах, это запах ванили, но вкус их мне не знаком.
- Это грязь!
Никогда я не усядусь под полосатым красно-желтым тентом на одной из террас, никогда не отведаю толстых брюссельских вафель с кремом шантильи.
Неужели они тоже грязь? Скорее всего, это нам просто не по карману. Точно так же мы не садимся на садовые кресла, выкрашенные желтой краской, потому что старушка с полотняным мешочком на шее ходит и взимает с сидящих плату в одно су. Мы сидим только на скамейках, если найдем свободное место.
Мы смотрим, но ничего не покупаем, и входим только в те павильоны, куда пускают бесплатно. Стоит мне захныкать, что хочется пить, мама отвечает:
- Скоро будем дома, там и попьешь.
Бутылка содовой стоит десять сантимов!
И только проспекты ничего не стоят, поэтому каждый день я ухожу домой не с пустыми руками. Помню потрясший меня прекрасный, роскошно иллюстрированный альбом на глянцевой бумаге. В нем были фотографии самых разных спичек, зеленых - с желтыми, красными, синими головками, восковых спичек, ветровых и так далее.
Но за проспектами нужно долго брести по нагретой пыли. А ведь в Льеже, надо думать, не мы одни можем себе позволить только бесплатные развлечения!
К четырем часам хлеб в сумочке подсыхает, масло впитывается в мякиш. Этого вкуса мне тоже никогда не забыть. Какао в бутылке остыло; моя благовоспитанная мама долго ищет железную урну, чтобы выбросить замасленную бумагу.
Сама она ничего не ест, но не потому, что не голодна: в общественных местах есть неприлично.
У Анриетты ломит в пояснице, особенно в те дни, когда приходится брать меня на руки. Она постоянно боится потерять меня в толчее. Говорят, ежедневно на выставке находят не меньше дюжины детей, за которыми потом надо идти в канцелярию. Какой будет стыд, если с ней случится подобное! И что скажет Дезире про жену, которая не умеет последить за ребенком?
В шесть часов Дезире переходит мост и встречается с нами. Он не купил постоянного абонемента и ждет нас снаружи, на площади Бовери, за решеткой с позолоченными остриями поверху.
Он берет меня за руку или сажает на плечи. Улицы, подсиненные сумерками, кажутся длиннее, чем по пути на выставку; пахнет потом, пылью, усталостью; иногда я засыпаю прямо на плечах у отца, а мама семенит рядом.
У нее были прекрасные часики, золотые, инкрустированные бриллиантовой крошкой. Их подарил ей Дезире вместо обручального кольца: часы ведь гораздо нужнее. Мама носила их на шее, на цепочке, по моде тогдашнего времени.
Однажды на выставке, на сверкающем позолотой мосту, в густой толпе зевак мы смотрели на каскад, а мимо бежал мальчишка-пирожник. Он зацепил корзинкой за длинную часовую цепочку, и часики, инкрустированные бриллиантовой крошкой, сверкнув на солнце дугой, перелетели через парапет и упали в Маас.
Родители наняли за пятьдесят франков водолаза, но он не нашел часов.
С тех пор часов у Анриетты никогда уже не было. Теперь ей шестьдесят, а она так и узнает время по электрическим часам на перекрестках. По сей день вспоминает она о своих часиках с бриллиантами и о злополучном мальчишке-пирожнике...
Бедная старенькая мама!
Мы подходим к дому. Мы уже на бульваре Конституции. Он обсажен каштанами, вечерняя тень под ними гуще. Прохожих почти не видно.
Летние сумерки - в Льеже их до сих пор называют сумерниками; ноги гудят от усталости, в горле пересохло, живот подвело от голода.
Кто несет наш ужин - небольшой промасленный сверток из колбасной лавки?
Завидев дом, ускоряем шаги, точно у всех разом закружилась голова. Вдруг отец останавливается.
- Кажется, это твой брат?
На краю тротуара стоит пьяный и, пошатываясь на широко расставленных ногах, преспокойно мочится прямо на мостовую.
- Дезире!
Она дергает мужа за рукав, указывая на меня глазами. Он понимает и поправляется:
- Ну какой же я глупый! Конечно, это не Леопольд.
Анриетте так хотелось бы, чтобы ее семья была, как в книжке с картинками!
Может быть, Леопольд нас заметил? Пошел за нами?
Ему неоткуда было узнать наш адрес. Тем не менее однажды утром в дверь звонят один раз. Из коридора слышится спор: услышав один звонок, хозяйка сама открыла дверь. Потом на лестнице раздаются тяжелые и неверные шаги.
- Боже мой, Леопольд...
Это тот самый человек, который при всем честном народе мочился на бульваре Конституции. Он коротконог, коренаст, с многодневной щетиной, в измятом котелке.
- Это твой сын?
Он садится у огня. Анриетта в ужасе.
- Леопольд...
Пятидесятилетний мужчина с отсутствующим взглядом, с медленной, затрудненной речью. Анриетта наливает ему чашку кофе, а он, пока пьет, расплескивает половину себе на пиджак, даже не замечая. Она всхлипывает, потом принимается плакать. Непонятно, куда девать меня.
- Боже мой, Леопольд...
Он понял, что он тут не ко двору, некстати. Отодвинул чашку на середину стола, неуклюже встал. Анриетта идет за ним следом на лестницу. Она переходит на фламандский, во-первых, из-за хозяйки, а кроме того, с братьями и сестрами ей проще всего объясняться на этом языке.
Леопольд уже десять лет, а то и больше, не видался ни с кем из семьи, в которой он старший, а моя мать самая младшая. Никто не знал даже, в Льеже он или где-нибудь еще.
Назавтра он возвращается. Звонит два раза, как велела Анриетта.
Он выбрит, более или менее чист и при галстуке. Трезв, слегка смущен.
- Не помешаю?
Садится у плиты, на том же месте, что вчера, и мама опять наливает ему кофе.
- Хочешь бутерброд?
Их разделяет более чем тридцать лет. Они, можно сказать, почти незнакомы, но наш дом, наша кухонька станет отныне тихой гаванью для Леопольда, и он, чтобы часок передохнуть, будет часто заглядывать сюда по утрам, когда отец в конторе.
При этом вопрос "Не помешаю?" сменится другим: "У вас никого нет?"
Он наверняка сознает свое падение и не хочет вредить сестре.
Взгляд его говорит, что за себя ему не стыдно. Остальные Брюли, братья и сестры, думают всю жизнь только о деньгах и почти все пустились в торговлю.
Леопольд буквально начинен секретами. Он был первенцем в семье, когда Брюли жили еще в Лимбурге.
Однажды утром он принес маме под полой своего длинноватого пиджака картинку маслом, которую нарисовал по памяти. Перспектива, само собой, нарушена, но все детали родного дома выписаны необычайно тщательно.
Мама готовит завтрак, гладит или чистит овощи, а Леопольд попивает кофе, вытянув свои короткие ноги, и сыплет рассказами на фламандском языке. Это история нашей семьи.
- Наш отец тогда был dijkmaster*.
Пойми, Марк, маленький мой сельский житель, это о многом говорит. Значит, мой дед, который плохо кончил и умер от пьянства, был в свое время хозяином дамбы.
Когда ты увидишь Голландию, по-нынешнему Нидерланды, и польдеры **, ты поймешь, что заведовать дамбой - это своего рода дворянская грамота, и самая что ни на есть подлинная.
У меня нет той картинки маслом, нарисованной дядей Леопольдом; не знаю, сохранилась ли она у Анриетты.
Просторный дом среди плоской зеленой пустыни. Из этого дома в любую сторону надо идти и идти, прежде чем доберешься до другого жилья.
Канал, идущий из Маастрихта в Херцогенрат, течет прямо под окнами выше уровня земли, и скользящие по нему суда задевают за верхушки тополей. Когда ветер надувает их паруса, кажется, суда вот-вот упадут в поле.