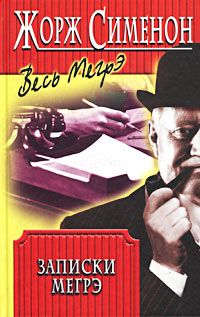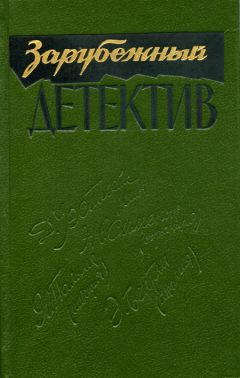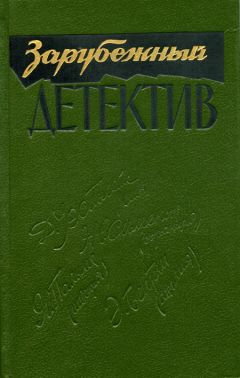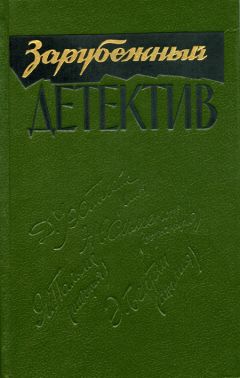Жорж Сименон - Я вспоминаю
- Понимаете, сударь, я предпочла бы доплатить и...
Господин Озэ - приземистый человек в белом фартуке. Ему плевать на обстоятельства моей мамы и на ее тревогу. Он небрежно оборачивается к продавщице:
- Обменяйте этой даме шоколад. Как все просто!
- Благодарю вас, сударь. Видите ли, если бы...
Бедная мама - такая гордая и такая смиренная, так вышколенная жизнью! И ей так хочется всем угодить, и чтобы никто не подумал о ней плохо!
Увы, шоколад первого сорта был обыкновенными длинными брусочками, а не кубиками. А мне хотелось кубиков.
Каждые полгода, пятнадцать лет подряд, богатая старая дама дарила нам одинаковые свертки, а потом и по два таких свертка: подарок удвоился, когда родился мой брат.
А мама пятнадцать лет подряд шла наутро в магазин "Озэ" менять "пансионерский" шоколад на первосортный.
- После моей смерти вас, господин Сименон, ждет приятный сюрприз.
Так сказала старая дама. Отец пересказал эти слова моей маме, а мама - мне.
- Она всегда принимала в нас участие, особенно в тебе. Наверное, хочет упомянуть в завещании.
Она умерла.
Но в завещании не оказалось о нас ни слова, да и шоколада тоже не стало.
Ты, наверно, удивишься, что в моих записках оказался такой перерыв: с самого Нового года до Пасхи!
Только что ты заглянул ко мне в кабинет. Все вокруг изменилось.
Правда, война продолжается. Теперь она разворачивается на Балканах. В течение нескольких недель были разгромлены подряд две или три страны.
А ты об этом не ведаешь и безмятежно переходишь от радости к радости, от одного солнечного луча к другому. На все смотришь, все понимаешь, все замечаешь. Ты лакомишься жизнью в свое удовольствие.
Твоя бабушка пишет, что волосы у нее почти совсем побелели. Ей шестьдесят пять лет. Она живет воспоминаниями о днях, прожитых рядом со мной и моим братом, когда мы были такими, как ты, и копошились на полу.
"Как мы были счастливы!" - пишет она.
Наша двухкомнатная квартирка, улыбчивый Дезире, который приходил домой всегда в одно и то же время своей упругой походкой, напевая себе под нос. Как позже стали делать и мы, он объявлял с порога:
- Я проголодался! Или:
- Обед готов?
А потом изображал мне барабанщика и таскал меня на плечах, так что я головой почти касался потолка.
Национальный гвардеец Дезире, он так радовался жизни, местечку, уготованному ему судьбой! Умел ценить каждую кроху счастья... Между ним и тобой, между тобой и Анриеттой - целый мир: и дядя Гийом, и дядя Артюр, и тетя Анна, и тетя Марта; вас разделяют две войны и нынешний исторический момент и то величественное усилие народов, те мучительные роды, последствий которых мы не в силах предугадать. Но мне хотелось, чтобы ты узнал обо всем этом не только из учебников.
Вот почему, сынишка (так называл меня Дезире в приливе нежности), вот почему с самого декабря я взвалил на себя всякие довольно скучные дела, имея в виду единственную цель: освободиться наконец, освободиться от всех обязательств и спокойно продолжать эти записки.
А ты между тем дожил уже до первых штанишек. Хорошо, что они у тебя не красные и тебе не грозит разочарование лишиться их после одной-единственной короткой прогулки по солнечным улицам.
Дядя Шарль, ризничий церкви святого Дениса, обладатель мягкой, как овечья шерсть, шевелюры, увлекается не только фотографией. Он плетет из веревки сетки для продуктов. У каждой сестры или невестки есть сетка его изготовления.
Где только выучился этому моряцкому искусству человек, никогда не покидавший своего прихода и в глаза не видевший моря? По-видимому, двор монастыря бегинок, где он живет, располагает к спокойным и молчаливым занятиям.
У меня тоже есть своя сеточка, совсем маленькая. Отец еще в постели, его усы смешно торчат из-под одеяла, дрожа при каждом вздохе.
Весна или лето. Мы с мамой выходим из дому в половине седьмого утра. Улица Пастера и весь квартал пусты.
Между Новым и Арочным мостами, на границе предместья и центра, есть широкий деревянный мост, который все называют просто "мостик". Так короче и привычнее. Обитатели того берега Мааса смотрят на мостик как на свою собственность: его переходят без шляпы, выскочив из дому на несколько минут.
Поднимаешься по каменным ступеням. Доски моста поют и дрожат под ногами. Спускаешься на другой стороне, и в семь часов утра этот спуск все равно что приземление на другой планете.
Повсюду, куда только достанет взгляд, шумит рынок; налево идет торговля овощами, направо - фруктами; тысячи корзин из ивовых прутьев образуют настоящие улицы, тупики, перекрестки; сотни коротконогих кумушек в трех слоях юбок с карманами, набитыми мелочью, зазывают покупателей или переругиваются с ними.
Идти на рынок в шляпке не следует, не то запросят втридорога, а начнешь торговаться - прослывешь притворщицей.
Мама проталкивается вперед, а я цепляюсь за ее юбку, чтобы не потеряться в толчее.
Анриетта пришла сюда не из-за того, что здесь на скромном еще голубом с золотом фоне раннего утра разворачивается самое прекрасное зрелище на свете. Она не принюхивается к влажной зелени, не чувствует острый аромат капусты и затхлый картофельный запах, заполонивший целые кварталы; даже фруктовый рынок Ла Гофф - буйство запахов и красок: клубника, вишни, лиловые сливы и персики - существует для нее в пересчете на сантимы; то она выгадала несколько сантимов, то ее обсчитали на несколько бронзовых или никелевых монеток, которые она вытаскивает одну за другой из кошелька, пока торговка нагружает ей сетку и сует мне какой-нибудь плод в придачу.
На дороге сотни лошадей и телег; лошади провели в пути добрую часть ночи, почти у всех у них подвязаны к мордам мешки с овсом.
Весь этот люд наехал сюда из окрестностей, из ближних деревень. И скоро, едва зазвонит колокол, все они исчезнут, оставив после себя на булыжнике набережных и площадей разве что капустные листья да ботву от моркови.
В память об этих утрах я на всю жизнь сохранил любовь к рынкам, к их кипучей жизни, предшествующей обычной городской суете, к этой свежести, чистоте, которая приезжает к нам из деревни, укрытая влажной рогожкой, на телегах и двуколках, под неторопливую трусцу лошадей.
Бедная мама предпочла бы не расставаться со шляпкой и перчатками. Иногда она замечала с опасливым презрением:
- Рыночная торговка!
Такое говорилось про языкатых краснощеких женщин с дубленой кожей и криво приколотыми шиньонами.
Хрупкая и чинная, подавленная предчувствием мигрени или неотвратимой боли в пояснице, боясь потратить несколько лишних монет, Анриетта покупала тут кучку морковок, там две-три луковки, немного фруктов на вес-так мало, что любая слива была на счету. А вокруг нас громоздились целые горы даров земли, и возчики кормили лошадей ломтями ржаного хлеба, отрезая их от огромных караваев.
Каждый раз меня приходилось за руку оттаскивать от постоялых дворов, куда попадаешь, спустившись на несколько ступенек вниз по лестнице, и где, в тусклом свете, пронизанном редкими солнечными лучами, бесцеремонно положив локти на стол, сидели люди с лоснящимися губами и зычным голосом, поедая необъятные порции яичницы с салом и пироги, огромные и толстые, как тележные колеса.
Как я грезил этой яичницей, салом, пирогами! Я почти чувствовал их вкус на языке, и рот у меня наполнялся слюной. В первом моем романе - я написал его в шестнадцать лет, и он никогда не был напечатан излагалась история длинного костлявого парня, очутившегося внезапно в этом изумительном мире солнца, пота, суеты и запахов всевозможной снеди.
А ты, бедная моя мама, ни за что на свете не купила бы кусок этого жирного непропеченного пирога. Мужицкая еда!
Долгие годы мечтал я об этой еде; я мечтаю о ней до сих пор, вызывая к жизни эти воспоминания, и снова чувствую тот самый смешанный запах пирога, сала и кофе с молоком, который подавали в толстых фаянсовых чашках.
Гордая и чинная, ты протискивалась сквозь волшебный мир, без устали подсчитывая расходы, а за твою юбку цеплялся малыш с завидущими глазами.
Почему ты так долго скрывала от меня, что в этом рыночном царстве у нас есть родня? Почему сотни раз мы проходили, не заглянув внутрь, мимо самого красивого кафе?
Однажды ни с того ни с сего мы вдруг забрели в это великолепие. Точнее сказать, сперва мы просто остановились рядом, как будто случайно, и ты робко, украдкой, заглянула внутрь.
В конце концов молодая женщина, задумчиво сидевшая за стойкой, заметила тебя. Она оглянулась по сторонам - точь-в-точь барышни в "Новинке", опасающиеся администратора. Потом подошла к дверям.
- Заходи скорей, Анриетта!
- Он тут?
- Вышел.
Они расцеловались. Глаза у обеих были на мокром месте, обе вздыхали и лепетали дрожащим голосом:
- Бедная моя Анриетта!
- Бедная моя Фелиси!
И впрямь - бедная Фелиси: самая незадачливая и самая красивая, самая трогательная из моих теток.