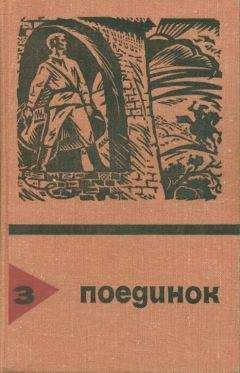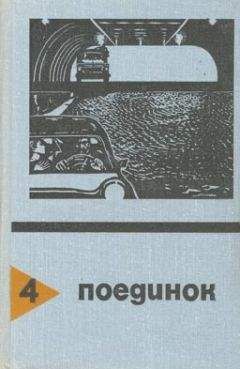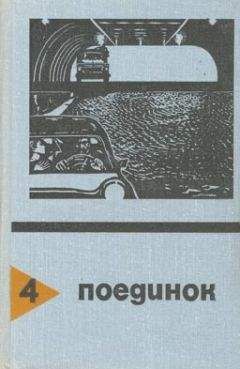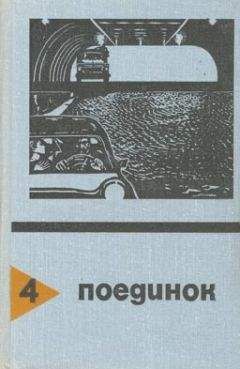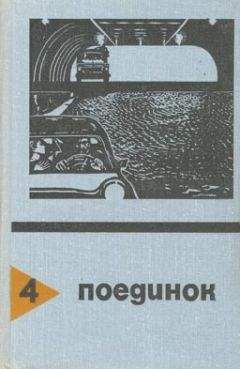Эдуард Хруцкий - Поединок. Выпуск 7
— Это как раз не мы. Какой–то уголовник помог (лично мне) выйти из этой пикантной ситуации с достоинством.
…И еще было множество косвенных вопросов, смысл которых сводился к одному–единственному: а Федоров ли ты на самом деле? Федоров ли?
Пришла пора подводить итоги. Прапорщик встал:
— С вашего позволения, я доложу своему командованию следующее. Вы хотели организовать в Питере филиал вашего, так сказать, благотворительного общества. Попытка провалилась. В силу этого и в силу ряда других обстоятельств, вы не прочь войти в сношения с нашим сообществом, поскольку цели и ваши и наши одинаково гуманны и благородны.
— Не забудьте подчеркнуть в разговоре с вашими, что объединение возможно лишь при условии автономии москвичей. В подчинение к питерским мы не пойдем!
— В ближайшие дни мы организуем вам встречу с пятеркой. Сегодняшний разговор, как вы понимаете, лишь пристрелка. В качестве жеста, символизирующего наше взаимное доверие, может послужить передача в распоряжение петроградцев нескольких бланков с печатями Совнаркома.
— Только после встречи.
— Хорошо. Во время или после встречи.
— Сияешь, Шмаков?
— Старик Шмельков, как всегда, оказался прав. Связь Боярского с крупными хищениями последнего времени несомненна. Прапорщик Дымбицкий отмечен нами в числе тридцати «гостей» Боярского. В разговоре с Федоровым он подтвердил факт экспроприации и то, что «Ванька с пятнышком» принимал в них участие.
— Решил брать?
— Только после встречи пятерки с Федоровым. Встреча может произойти или буквально завтра, или через десяток дней: скоро Боярский уезжает в Москву, ему уже выписана командировка в Наркоминдел. Отменять командировку считаю опасным, — Боярский наверняка насторожится.
— Опять — канитель?
— Предполагаем два пути. Первый: встреча с Федоровым состоится до поездки Боярского. Арестовываем всех, кроме князя, которого спокойно сопровождаем в Москву. (Чем черт не шутит, а может, у него и там есть какие–то силы?) Второй путь: встреча происходит после поездки Боярского. Тогда арестовываем всех.
На всякий случай готовимся и к такому раскладу: Боярский пожелает встретиться с Федоровым в Москве, чтобы убедиться в реальности «галицийского союза». В Москве уже предупреждены и готовят для Федорова нескольких «галицийцев».
— Стало быть, аресты… А ты уверен, что таким способом можно вернуть похищенные ценности?
— Ишь, как заговорил! Я уверен, но гарантий дать не могу.
— Что — Боярский?
— Без изменений.
12. ВАЛЬКА РЫГИН
— И–и–и–и! — Марта Гнилушка плакала. — Как же мне жаль Ванюшечку–то! Прям–стону нет, как жаль! — Она плакала самозабвенно, восторженно, сладко. Слезы заливали лицо. Гнилушка аж захлебывалась слезами. Цепляла сидящих у Семеныча, теребила: дескать, глянь! Ага, пропащая! Изнутри вся гнилая. А погляди, как плачу, как жалеть–то умею!
Трое налетчиков сидели в этот тихий час за столом у Семеныча — братья Мордахаевы. Они молча, дремотно пили. Молча, бесстрастно глядели на Гнилушку. У них были одинаковые безбородые лица — плоские, невнятные, как походившая по рукам монета.
…Из–за занавески вдруг вылез Валет, озверелый, багрово–опухший. Шатаясь, подошел к Марте, взял ладонью за скользкое от слез лицо. Толкнул в угол. Она свалилась и стала похожа на груду тряпья. Лишь нога торчала в чулке, подвязанном бечевкой.
— Легавая! — заорал Валет и даже ногами вдруг затопал. — Ты и продала! А теперь белугой ревешь?
— Это я — то? — возмутилась Гнилушка и стала подниматься. — Я–то Ванюшечку продала? Как у тебя стыда хватает говорить такое?
Валет стоял вполоборота к ней, цедил из захватанного стакана белесую брагу. Руки его тряслись.
Вдруг круто обернулся;; со страшной силой метнул стакан в лицо пытавшейся подняться Марте.
Лицо мгновенно залилось кровью.
Мордахаевы молча поднялись и неторопливо проследовали друг за дружкой в соседнюю комнату — там был запасной выход на улицу.
— Ой–ей–ешеньки! Убил! — вскричала Гнилушка не своим каким–то голосом.
— Удавлю! — свирепо зашипел Валет. — Я тебе за «Ваньку с пятнышком»!.. Кто записку в чека подбросил? Думаешь, не знаем? Думаешь, не помним, как ты ему грозилась «устроить», когда он тебя на Юлу поменял?.. Отвечай! — он сгреб ее за платье, выволок на середину комнаты.
Гнилушка забыла плакать. В ужасе гдядела на Валета.
— Не писала я записки никакой! — На губах ее выступила вдруг пена. — Истинный крест, Валетик! Не пи–са–а–а–ла–а–а!!
Она изогнулась в руках у Валета, стала колотиться.
Он швырнул ее на пол.
— Кувыркайся, кувыркайся!
Валет достал из кармана тонкий волосяной шнурок, стал вязать петельку.
Тут Семеныч, в страхе забившийся в угол, как это он всегда делал во время драк, крикнул:
— Ну, не здесь же, Валет! Нельзя же здесь!
— Как же… — старчески усмехнулся тот. — На Невский я пойду ее кончать.
И поволок в беспамятстве дергающуюся Гнилушку в соседнюю комнату,
Семеныч закрыл уши руками.
Валет заметно дрожал, когда через несколько минут вышел. Посасывая окарябанный палец, деловито сказал:
— Теперь вот что, Семеныч! На мушке мы, это точно. Если уж она Ванюху продала, то хазу твою — подавно! Мотать надо. Думаешь, зря два матросика вокруг да около бродить стали? У меня на это глаз битый.
Семеныч обеспокоенно забегал по комнате:
— Но если ты ошибаешься, Валет?
— Одного из них я «срисовал». В августе, помнишь, малину на Крюковом накрыли? Я по крышам уходил и одного из них, точно, видел. Жаль, пьяный эти дни был — давно бы чухнулся.
Семеныч все бегал по комнате.
— От так–так! От так–так!.. Бежать, конечно! Это ты прав, Валет. — Вдруг остановился в горделиво–нелепой позе, по–адвокатски вытянул руку: — Но — что им Семеныч? Семеныч убивал? Семеныч грабил? Нет. Семеныч — просто гостеприимный человек, — дробненько захихикал. — Семеныч не может отказать знакомым людям в ночлеге, в еде какой–никакой. А чем мои знакомые платят? А чем мои знакомые занимаются? Я, конечно, мог знать, не спорю… А мог ведь и не знать!.. И уныло присел на табуретку. — И все же ты прав, Валет, что нужно бежать. Но мне уже шестьдесят восемь! И — начинать все сначала? Нет! Будь, что будет, Валет, а я не пойду!
Валет неожиданно легко согласился:
— Ну, дело хозяйское… Дай пожрать, Семеныч.
Сидя за столом, поглядывал из–за отогнутой занавески. Был виден дом наискось, и Свитич, который, сидя на крыльце, пьяно двигал руками, перематывая портянки.
Валет ждал долго и наконец дождался — поймал быстрый трезвый взгляд исподлобья, брошенный на дом Семеныча.
А среди ночи вдруг легко и шустро, как картонная, полыхнула хаза.
На пожар сбежался народ со всего проулка. Трудно было даже представить, что в этих молчаливых домишках водится столько людей.
Семеныч бегал вокруг огня, упрашивал, хватал всех за руки, становился на колени:
— Люди! Вы же меня сто лет знаете! Вешчи помогите вынести, вешчи! Одну только вешчь! Лю–юди!!
Люди хмуро отмалчивались.
Свитич цапнул Семеныча за рукав, гаркнул в ухо:
— Где Валет?
Старик глянул на него ничего не понимающими, уже безумными глазами.
— Ах, там… — махнул рукой в огонь. — Все там. Все вешчи там.
13. КНЯЗЬ БОЯРСКИЙ
Вечером следующего дня Шмакову доложили: поступило заявление Боярского о том, что ограблена его квартира. Взломана дверь. Экономка, находившаяся во флигеле, убита.
— А где Стрельцов?
— Стрельцов? Его на посту нет.
— Через полчаса буду. Шмелькова — срочно! — ко мне!
С улицы флигель Боярского выглядел как обычно: плотно задернутые шторы, по скудному снегу — едва протоптанная дорожка к крыльцу.
Шмаков толкнул дверь, мимоходом оглядел и замок.
Сразу от дверей начинался маленький коридорчик. На вешалке аккуратно висела дамская потертая шубка, серый платок засунут в рукав. Чисто, опрятно, небогато, с достоинством…
В полуоткрытую дверь гостиной было видно, как осторожно, словно бы крадучись, двигаются там люди, — шел осмотр.
Шмаков остановился в дверях.
Сущий разгром! Распахнуты дверцы всех шкафов. Грудой лежат в углу книги. Мебель сдвинута. В одном месте целиком ободрана полоса обоев. В соседней комнатке творилось то же самое. В кухне — распахнут люк подпола… Впечатление было такое, будто кто–то яростно, нетерпеливо и торопливо что–то искал.
Шмаков отворил дверь в последнюю, без окон, комнату — и отшатнулся.
В прямом кресле сидела, слегка склонив голову набок, обнаженная женщина. Она улыбалась. Только приглядевшись, Шмаков увидел в полутьме веревку и то, что это не улыбка, а гримаса боли, застывшая на лице женщины навсегда.